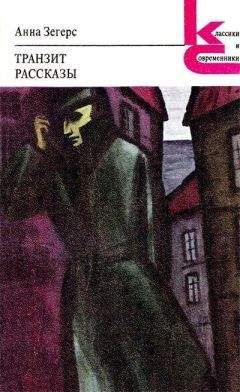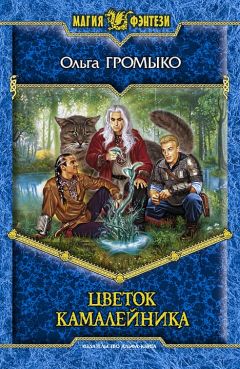Юрий Нагибин - Безлюбый
Но все эти рассуждения не прибавили Корягину симпатии к великому князю. Он так привык ненавидеть его долговязую фигуру, всос бородатых щек, выпученные глаза, противные, какие-то собственнические жесты, журавлиную походку и нервный вскид головы, что уже не мог увидеть другими глазами. К тому же его раздражала зашоренная преданность Варвары Алексеевны настырной тени, и мерзко было думать, что между ними существовала близость. Его удивляло, злило и обескураживало то простодушие, с каким она то и дело заговаривала о покойном. Она никогда не говорила столько о своих сыновьях и всей прочей, довольно многообразной жизни. Ей было приятно вспоминать о всяких мелочах, с ним связанных, о ничтожных подробностях его поведения, словечках, шутках, охотничьих подвигах, чудачествах: он играл на английском рожке и разводил турманов. Однажды, когда она вновь принялась восхвалять достоинства своего мужа, Корягин оборвал захлебное словоистечение:
- Зачем вы все это говорите? Хотите внушить мне, что ваш муж замечательный человек? Чтобы я пустил покаянную слезу? Вы этого не дождетесь.
Последовала долгая пауза, как и всегда, когда ее что-то озадачивало.
- Наверное, я хочу, чтобы вы его простили. Он с трудом сдержал смех:
- Мне его прощать? Скорее наоборот.
- Но он там... Он, конечно, простил. Ну и вы его простите. Зачем жить с ненавистью в душе? Это же плохо.
- Жить! -повторил он.- Вы серьезно думаете, что я буду жить?
- Да! Мне не могут отказать. Не посмеют. Мы оба просим за вас. Наш суд высший.
- Не расписывайтесь за других,- криво усмехнулся Корягин...
Вскоре он понял, что спорить с ней бесполезно. Очень внимательная к его настроению и поведению, она тщательно следила за тем, чтобы не утомить его, не наскучить своей предупредительностью; могла быть разговорчивой, когда он снисходительно терпел ее болтовню, и тихой, как мышка, когда он проваливался в собственные мысли, но в чем-то была непоколебима. Да не "в чем-то", а во всех своих убеждениях это мягкое, женственное существо являло крепость скалы. Даже в болтовне о разных житейских мелочах она не теряла четкую моральную позицию, которая зиждилась на вере в добро. Тут ее не сбить ни доказательствами, ни сарказмом, ни насмешками, ни эмоциональной бурей. В ее цельном мирочувствовании не было прорех, швов и пустот.
Но чего-то он все-таки не понимал. Однажды в своей кроткой манере она обмолвилась чудовищной фразой: "...вы же последний видели моего мужа". И не поперхнулась, не спохватилась, как будто так и надо.
Звучит дико, но он так прочно связался в ее сознании с мужем, что она перестала делать различие между ними. Оба были замешаны в трагедию, срыв ее жизни, что наделяло их равной значительностью, почти родностью. При ее понимании греха и прощения так и в самом деле могло быть.
Корягина не удовлетворяло это искусственное, хотя и не лишенное крупицы смысла объяснение, другого он не находил и потому не мог избавиться от чувства настороженности. Что так притягивало ее к нему? Не могла же она из отвлеченного милосердия и прочих натужных христианских благоглупостей чуть не каждый день приезжать в крепость, сидеть часами у его изголовья, возиться с неаппетитной раной, закармливать шоколадом - любил сладкое - и выслушивать грубости. Первый визит можно объяснить мучительным любопытством к человеку, сыгравшему роль рока. Не каждая вдова способна на такое, все же это объяснение допустимо. Но, потрафив своему больному чувству, надо было опрометью бежать отсюда, а Варвара Алексеевна стала его сиделкой. И она действительно подала на помилование, иначе бы его давно вздернули. И как изменилось отношение к нему хамов-тюремщиков!
Корягин не заблуждался на свой счет, он знал, что неприятен окружающим: резкий, колючий, никогда ни к кому не подлаживающийся. А с Варварой Алексеевной он вел себя вовсе непотребно, особенно поначалу. Но это ее не отпугнуло. Она даже привязалась к нему, он кожей чувствовал исходящее от нее тепло. Материнская жалость тут ни при чем, у нее были собственные осиротевшие дети, да и слишком молода она для такого взрослого сына. Это было бессознательное расположение - не по хорошему мил, а по милу хорош,- на которое накладывались ее доброта и сердечность.
Ей хотелось больше знать о нем, но его жизнь была так бедна поначалу, так пуста и плоска, а потом так выострена к одной цели, что ему нечего было ей сказать. Впрочем, разговора как обмена соображениями и сведениями между ними почти не бывало. Обычно говорила она, а он слушал или не слушал, но как-то отзывался нутром на тихое журчание голоса, который был к нему бескорыстно ласков. Иногда она гладила его по волосам своей легкой, нежной, проникающей рукой.
Она уходила, а он продолжал чувствовать корнями волос ее прикосновения. Однажды ему показалось, что он понял ее цель в отношении него. К ней приезжала мать-настоятельница той малой женской обители, которую она поддерживала. Девяностолетняя старуха, а сколько в ней доброго ума, понимания людей, до чего же ясный, незамутненный дух!.. Как только повеяло ладаном, он отключал слух, но в глухоту проникали умиленные речи о тишине затерянной в глухом еловом бору обители, о мечте по завершении мирских дел окончить там свои дни, остаться наедине с собственной душой, а через нее - с Богом, и прочей душеспасительной белиберде. Потом он услышал ее выжидательное молчание и спросил с усмешкой:
- Вы что, хотите примирить меня с Богом? Он ждал постного взгляда, поджатых губок, обиды за ханжеской кротостью, но она ответила милой шуткой:
- А разве вы ссорились?
- Но я же преступник... в ваших глазах. А преступник не может быть в хороших отношениях с Богом.
- Кто это знает?.. Кто, кроме Бога, знает тайное в человеке? Может, в глубине души вы ближе к Богу, чем я. Я хожу в церковь, совершаю все обряды, молюсь, забочусь о бедных. Я, как говорится, тепло верующая. Но Христу были дороже заблуждающиеся, сбившиеся с пути, отвергающие его... Какое у вас кислое лицо! Вам скучно?
- Скучно. Скажите честно, неужели вы верите во второе пришествие, Страшный суд, во весь этот омерзительно живодерский бред?
- Геенну огненную я уже получила,- тихо сказала она.- Как же мне не верить? Но хотите честно, так честно, как никогда и никому? Для меня все христианство в Нагорной проповеди. Я как-то не могу представить себе Христа в гневе, Христа карающего, Христа, возвращающего мертвых, чтобы вновь ввергнуть их в преисподню. В Священном писании есть места, которые мне непонятны. Немногие войдут со Спасителем в Царствие небесное и сядут за пиршественный стол Небесного Отца. А как же с искуплением грехов? Ради чего взошел Христос на крест? Ведь он же искупил грехи человеческие. Он подарил нам свободу праведности. Тогда при чем тут "в страхе Божием"? Вы знаете, мне иногда кажется, что Христа допридумывали. Ведь после Нагорной проповеди ничего больше не надо. Держать людей под угрозой расплаты - это плохо даже для земных судей, а для Небесного вовсе никуда не годится. Видите, я богохульствую. Но Нагорная проповедь - это такая прелесть, такое благоухание духа!.. Можно, я вам немного почитаю?
"Я так и знал, что этим кончится! - с досадой подумал Корягин.- О чем бы такие ни болтали, все кончается проповедью и Боженькой. Уходя, она оставит мне молитвенник, и перед смертью я сдам экзамен по закону Божьему".
Из-под края юбки торчал острый мысок ее ботинка, подъем ноги был крут, натянувшаяся юбка сохраняла контур ее красивой, какой-то щеголеватой ноги.
- Валяйте,- разрешил Корягин.
"Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство небесное... Блаженны плачущие, ибо они утешатся... Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю... Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся..."
А он прослеживал ее ногу от ботинка до изгиба бедра, а потом вниз от бедра до ботинка. Это была увлекательная игра.
Странно, она казалась ему худощавой, но как обманчиво это впечатление: она плотная, упругая, крепко сбитая, только руки маленькие, но сильные и ловкие. Она находилась в самом женском расцвете и еще родить могла бы. Он как-то ложно увидел ее поначалу, а потом с непонятным упорством держал в себе образ пожилой женщины. Она не могла испытывать к нему материнского чувства. А какое? Христианское, то, которое изливалось на него сейчас словами Нагорной проповеди?.. Нет, она была слишком живым и горячим человеком, а небеса холодны. Конечно, их связывает что-то вполне человеческое. Хотелось бы понять что?..
Он не заметил, как вработался в постоянные мысли о ней. Мысли - это не совсем точно, вернее, совсем не точно. Ее присутствие в нем не было связано с думанием. Он мог думать о чем-то другом, вполне житейском, сегодняшнем, или вовсе отвлеченном от насущных забот, мог уйти в воспоминания, последнее случалось нечасто, она все равно присутствовала в нем, лишь перемещаясь с переднего на задний план. Она была то субъектом, то фоном, четким или размытым, всех движений его внутренней жизни. Вот он проснулся и думает: что лучше - выкурить папиросу или встать, умыться, потом выкурить, а она уже в нем, он насыщен ее теплом и светом.