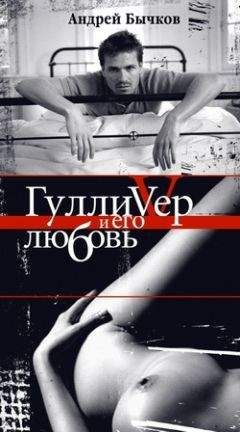Алексей Ремизов - Том 9. Учитель музыки
Ничего так не ценил Куковников, как слово. В этом была его страсть и его сокровище. Когда объявили борьбу с «денационализацией» и «против утраты русскими детьми духа русской народности», и когда стали печататься отклики авторитетнейших писателей, Куковников пришел в уныние.
Один из писателей предлагал, перечисляя «больные слова», выбросить и слово «утихомирить», означающее «утишить» (тихо сделать) – «умиротворить» (помирать) – «устроить», как несуразное и втершееся, происходящее не иначе, как от фамилии «Тихомиров». Другой не меньший знаток, ссылаясь на «слух», объявил, что «садить цветы» нельзя, а надо «сажать», а людей в тюрьму надо «садить», а не «сажать», хотя испокон веку по слуху, т. е. по чутью языка, всегда говорится «садил сад», «садить огурцы», а в тюрьму на русской земле всегда «сажали» (и «посадили» и «засадили»), но никогда не «садили» – «немчина не сажати в погреб Новегороде» – так с XII века (Мир. грам. Новг. 1199 г.).
– Мне спор этих книгоедов напомнил, – сказал Куковников, – когда-то в «Русском Богатстве» Михайловский по поводу языка Петра Бернгардовича Струве рассказал анекдот о встрече двух немцев: один говорит: «я только что стригнулся», а другой его поправил: «неправильно, надо говорить стриговался».
* * *Корнетов предупреждал: если я застану Куковникова за работой, дело мое пропало – пока не кончит своего вязального урока, подступиться к нему невозможно.
– Помните, как жили мы в Кербелеке218, – сказал Корнетов, – а перед нашим окном один «bonhomme» пропахивал виноградник: tiouk-tiouk-tiouk – nom-de-Dieu, mais… luîo (и раза два кашлянув) ouau! (остановка) и опять «тьюк-тьюк-тьюк». Так и Куковников со своим джемпером.
К моему счастью Куковников, как раз, окончив работу, пил чай с баранками «в тишине и радостно».
– Всякий день Бога благодаря за баранки, – сказал Куковников, – уж думал к здешнему приучиться, и ничего, но и удовольствия никакого не было, и вдруг чудесным образом объявились.
Я знал от Корнетова эту его слабость – баранки. Куковников питался овсянкой и эти баранки с чаем. Случались и такие, что и ножом не возьмешь и без молотка не обойдешься, по каменности превосходящие всякие сухари, – их называл Куковников «петровские», подразумевая давность – петровское время, а вовсе не Петра Петровича Сувчинского, как утверждал мошенник Козлок, дуря над дураками. И еще любил Куковников чаю попить с вареньем: лесная земляника или малиновое, но это бывало только по большим праздникам.
Корнетов достал у «Рами» земляничного варенья. Передав Корнетовский гостинец, я, ничего не говоря, раскрыл «Мысли» с животрепещущим вопросом «для кого писать», и на этот раз благополучно – не Поплавского, а ту самую, какую нужно.
– Сейчас, – сказал Куковников, – я вам из Гоголя.
А я вынул и держал наготове карандаш и бумагу.
– Помните о дамах, требующих героя «без пятнышка?» Это по поводу «Мертвых Душ». Вот ответ Гоголя: «он (автор) не имеет обыкновения смотреть по сторонам, когда пишет. Если и подымет глаза, то разве только на висящие перед ним портреты Шекспира, Ариосто, Фильдинга, Сервантеса, Пушкина, отразивших природу таковою, как она была, а не какою угодно было некоторым, чтобы была». Или вот еще отзыв Гоголя о «Вечерах», которые он называл «поросенком» и видел в них лишь «хвостики» своего душевного состояния. Но я скажу в «Вечерах» – «корни», весь Гоголь до своего рокового конца – до той «черствости», которую почувствовал и объявил себя «оглашенным», до своей «угольной черноты», на которую жаловался Оптинским старцам или, говоря словами Брюсова, до своей «испепеленности»219, обреченный сгореть, как Петро в «Майской ночи» или как псарь в «Вии». «На меня находили припадки тоски, – говорит Гоголь, – мне самому необъяснимой… чтобы развлекать себя одного, я придумывал себе все смешное, что только мог выдумать. Выдумывал целиком смешные лица и характеры, поставлял их мысленно в самые смешные положения, вовсе не заботясь о том, зачем это, и кому от этого выйдет какая польза».
Гоголем вышел я от Куковникова.
Лгать
«Язык на то и дан человеку, чтобы лгать»… Вдохновительница лжи – сама чудеснейшая природа. Сколько ни есть охотничьих рассказов изустных и печатных – первое тому и неопровержимое свидетельство. Литературный родоначальник лжи – Фальстаф. А за Шекспиром врут у Гоголя, у Достоевского и у Писемского. Врет в «Ревизоре» Хлестаков и в «Мертвых душах» Ноздрев с точнейшими подробностями, которые, утончаясь, «теряют всякое подобие правды и даже просто ни на что не имеют подобия». Врет в «Идиоте» Достоевского генерал Иволгин со своей болонкой, паж Наполеона. Врет Антон Федотыч Ступицын у Писемского в «Браке по страсти» и «Русских лгунах» со своим паркетом, на котором изображено Бородинское сражение, а ему вторит Коробов со своим будильником, который будит не трескотней, а выкрикивает человеческим голосом: «вставайте! вставайте!» да еще с прибавлением: «вставайте, Клеопатра Григорьевна!» – называя по имени мать Коробову. И во всей этой лжи, начиная от Фальстафа до «Клеопатра Григорьевна, вставайте» человек рассказывает о никогда не бывшем, а лишь желаемом, как о происшедшем на самом деле или «сбыточные и обыкновенные вещи, но только они с ним не случались и не могли случиться» – ведь и «паркет» и «будильник» приобретены по случаю, когда «водились свободные деньги», которых никогда не было ни у Ступицына, ни у Коробова. И рассказ ведется никогда не безразлично, так как в природе самой лжи – огонь и опьянение: лгуны всегда заносятся, всегда горячатся, а мелкие врунишки улыбаются. К этому разряду лжи относится всякая реклама изустная в громкоговоритель и печатная на роскошной бумаге, реклама торгово-промышленная, банковская, политическая и литературная от дружественных отзывов о книгах и театре до побивших рекорд иллюстрированных отечественных «наших достижений» с эйфелеобразными Маниловскими бельведерами и улыбающимся заключенным в Соловках.
Есть чисто женская ложь и всегда о любви, эта ложь для украшения бедной или несчастной жизни – врет Мавра Исаевна, тетка Писемского, в «Русских лгунах», врет Настя в «На дне»; и кто не встречал женщин, для которых два ваших безразлично сказанных слова получают глубокое значение, и вы непременно попадаете в число влюбленных, а ваш случайный взгляд будет жить для нее, как – «как он на меня смотрел!» Есть женская ложь общая с мужской, ложь всяких пролаз для достижения своих целей. А есть и еще ложь – «человек лжет словом, делом, помышлением» и – «телом», эта ложь любовных историй, слова в которых так однообразны и приемы не оригинальны, что им может поверить или ребенок или дурак; кто не знал дам, уверявших каждого из своих поклонников, что он первый! Но и самые затертые слова и самые невероятные по наивности объяснения в этих историях убедительнее всяких искусных и хитрых слов: так велико обаяние и чары – немая ложь тела. В литературе неисчерпаемый перечень всяких комедий, водевилей, фарсов с веселым окончанием и насмешкой над одураченным героем, но бывает и с трагическим концом: рассказ Леонида Андреева «Ложь».
«Залесный аптекарь» Семен Петрович Судок врал, как художник, – его ложь была бескорыстной игрой: ведь признак художественности и есть «ни для чего», «само собой» и «для себя». Судок носил парик – а где вы теперь увидите парик, разве на сцене! – и носил он парик не для форса, чтобы молодиться, а по каким-то причинам, более глубоким и уважительным – пронырливый и всезнающий Козлок нес невесть что.
Только потому, что я всегда был вне литературного и книжного круга, я не знал, что такое «залесный аптекарь» и о таинственных подробностях с париком пропустил мимо ушей, и вот почему однажды – не хочется вспоминать старое! – я так доверчиво попался на его удочку, и на собственном опыте знаю его аптекарские замашки и уверен, что не иначе, как рогатый.
«Ничего не поделаешь, надо принимать жизнь такою, как она есть, – сказал Корнетов, – а вот Семен Петрович с этим никогда не согласится: вся его жизнь – сплошная выдумка».
Судок был автором берлинского «Цвофирзона»220. И этот «Цвофирзон» (Zwovierson) – «свободное философское содружество» можно рассматривать, как образец его литературных упражнений: ни слова правды. Два года (1921–1923) мутил Судок этим «цвофирзоном» русский Берлин, в те годы самую многочисленную эмигрантскую колонию. По его милости возникла нашумевшая полемика между «Рулем»221 и сменовеховским «Накануне»222: обе враждующие газеты были введены в заблуждение его вымышленными литературными сообщениями, появившимися тоже по недоразумению в третьей берлинской газете с переменным названием. Был затронут и аристократический Париж, тогда с высокой валютой; из парижан в аптекарском «Цвофирзоне» принимал деятельное участие Лев Шестов, на самом деле не имевший никакого отношения ни к «аптекарю», ни к его художественной затее. Рассказывали, что Шестов, наконец, решился было напечатать опровержение, но к великому своему изумлению узнал в одной из парижских редакций, что опровержение уже напечатано, и, как впоследствии выяснилось, такое опровержение входило в выдумку Судока. Не осталась и Рига без отклика: не вымышленный, а действительный Петр Моисеевич Пильский223 письмом в редакцию отказывался от какого-то измышленного Судоком Петра Прокопова, выдававшего себя за ученика Пильского по Петербургской школе журнализма, Два Берлинских инфляционных года, если судить по информации Судока, представляли необычайно кипучую деятельность в искусстве и литературе, или вообще говоря, на культурном фронте: русский Берлин, если еще не превратился, то был накануне превращения в Афины, а до сих пор не засыпанный ров Е. Д. Кусковой не только сравнялся, а еще, как память, цвел цветочной клумбой – хлестаковскими курьерами летали из России в Берлин и из Берлина в Россию художники, писатели, ученые и музыканты.224 Стабилизация марки разбила все мечты и планы Судока. И с «Берлинской волной» Судок перекочевал в Париж. (Мы приехали вместе – 7 ноября 1923 г.225, держу в памяти для картдидантитэ). Но этот Париж ничего не имел общего с тогдашним Берлином: инфляционный Берлин, связанный с живой Россией и по свежим воспоминаниям выехавших за границу и по общению с приезжающими из России, был столицей, Париж же, теперь не высокой валюты, принявший в себя такие две разные волны, как Константинопольская, память которой держалась на «гражданской войне», и эта наша Берлинская, пережившая всю революцию в Москве или в Петербурге до нэпа, становился провинциальнейшим городом русского «стомиллиона». И с каждым «беженским» годом или с каждым годом «в изгнании», как любят выражаться никогда никем не изгнанные, явившиеся за границу с разрешения и даже в командировку, провинциальный дух концентрируется, проникая душу русского парижанина. Все, что есть характерного для провинциала, с годами распустилось в русском «стомиллионном» Париже, в самом совершенном виде. И разве это не провинция: выпуская книгу, пишут предисловие, заявляя, что предлагаемый рассказ, написанный от «я», совсем не надо понимать, что автор описывает себя, свою жизнь; или, скажу про себя, ничего нельзя написать из нашего житья-бытья, непременно найдется кто-нибудь, кто узнает себя, и бывали случаи, что отказывали печатать и возвращали рукопись «из-за личных намеков» – ну, скажите, пожалуйста, точно, напр., расстройство желудка такая уж индивидуальная болезнь? И хотя я печатно заявлял и еще раз заявляю, что я, как и всякий писатель, подчеркиваю писатель, а не описатель, пишу только и только о себе, свое и о своем, – подите, сговоритесь! Впрочем, что такое провинциал, лучше не скажешь, чем Достоевский: