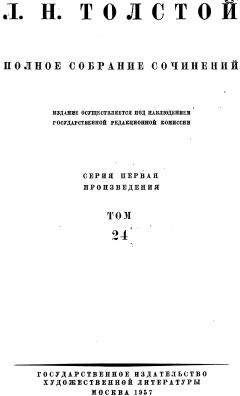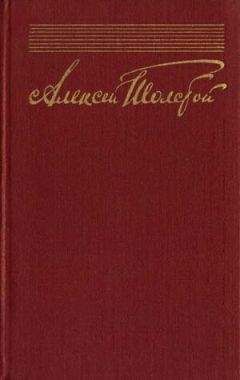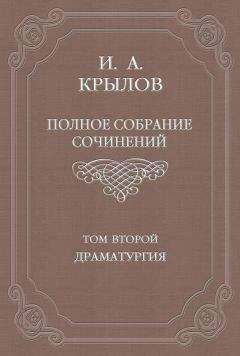Лев Толстой - Полное собрание сочинений. Том 11. Война и мир. Том третий
Ему стало стыдно, и он рукой закрыл свои ноги, с которых действительно свалилась шинель. На мгновение Пьер, поправляя шинель, открыл глаза и увидал те же навесы, столбы, двор, но всё это было теперь синевато, светло и подернуто блестками росы или мороза.
«Рассветает», подумал Пьер. «Но это не то. Мне надо дослушать и понять слова благодетеля». Он опять укрылся шинелью, но ни столовой ложи, ни благодетеля уже не было. Были только мысли, ясно выражаемые словами, мысли, которые кто-то говорил или сам передумывал Пьер.
Пьер, вспоминая потом эти мысли, несмотря на то что они были вызваны впечатлениями этого дня, был убежден, что кто то вне его говорил их ему. Никогда, как ему казалось, он на яву не был в состоянии так думать и выражать свои мысли.
«Война есть наитруднейшее подчинение свободы человека законам Бога», говорил голос. «Простота есть покорность Богу; от Него не уйдешь. И они просты. Они не говорят, но делают. Сказанное слово серебряное, а не сказанное — золотое. Ничем не может владеть человек, пока он боится смерти. А кто не боится ее, тому принадлежит всё. Ежели бы не было страдания, человек не знал бы границ себе, не знал бы себя самого. Самое трудное (продолжал во сне думать или слышать Пьер), состоит в том, чтоб уметь соединять в душе своей значение всего. Всё соединить?» сказал себе Пьер. — «Нет, не соединить. Нельзя соединять мысли, а сопрягать все эти мысли, вот что нужно! Да, сопрягать надо, сопрягать надо!» с внутренним восторгом повторил себе Пьер, чувствуя, что этими именно, и только этими словами выражается то, чтò он хочет выразить, и разрешается весь мучащий его вопрос.
— Да, сопрягать надо, пора сопрягать.
— Запрягать надо, пора запрягать, ваше сиятельство! Ваше сиятельство, — повторил какой-то голос, — запрягать надо, пора запрягать...
Это был голос берейтора, будившего Пьера. Солнце било прямо в лицо Пьера. Он взглянул на грязный постоялый двор, в середине которого у колодца солдаты поили худых лошадей, и с которого в ворота выезжали подводы. Пьер с отвращением отвернулся и, закрыв глаза, поспешно повалился опять на сиденье коляски. «Нет, я не хочу этого, не хочу этого видеть и понимать, я хочу понять то, чтò открывалось мне во время сна. Еще одна секунда, и я всё понял бы. Да чтò же мне делать? Сопрягать, но как сопрягать всё?» И Пьер с ужасом почувствовал, что всё значение того, чтò он видел и думал во сне, было разрушено.
Берейтор, кучер и дворник рассказывали Пьеру, что приезжал офицер с известием, что французы подвинулись под Можайск, и что наши уходят.
Пьер встал и, велев закладывать и догонять себя, пошел пешком через город.
Войска выходили и оставляли около десяти тысяч раненых. Раненые эти виднелись в дворах и в окнах домов и толпились на улицах. На улицах около телег, которые должны были увозить раненых, слышны были крики, ругательства и удары. Пьер отдал догнавшую его коляску знакомому, раненому генералу и с ним вместе поехал до Москвы. Дорогой Пьер узнал про смерть своего шурина и про смерть князя Андрея.
X.
30-го числа Пьер вернулся в Москву. Почти у заставы ему встретился адъютант графа Растопчина.
— А мы вас везде ищем, — сказал адъютант. — Графу вас непременно нужно видеть. Он просит вас сейчас же приехать к нему по очень важному делу. — Пьер, не заезжая домой, взял извозчика и поехал к главнокомандующему.
Граф Растопчин только в это утро приехал в город с своей загородной дачи в Сокольниках. Прихожая и приемная в доме графа были полны чиновников, явившихся по требованию его или за приказаниями. Васильчиков и Платов уже виделись с графом, и объяснили ему, что защищать Москву невозможно и что она будет сдана. Известия эти хотя и скрывались от жителей, но чиновники, начальники различных управлении знали, что Москва будет в руках неприятеля, так же как знал это и граф Растопчин; и все они, чтобы сложить с себя ответственность, пришли к главнокомандующему с вопросами, как им поступать с вверенными им частями.
В то время как Пьер входил в приемную, курьер, приезжавший из армии, выходил от графа.
Курьер безнадежно махнул рукой на вопросы, с которыми обратились к нему, и прошел через залу.
Дожидаясь в приемной, Пьер усталыми глазами оглядывал различных, старых и молодых, военных и статских, важных и неважных чиновников, бывших в комнате. Все казались недовольными и беспокойными. Пьер подошел к одной группе чиновников, в которой один был его знакомый. Поздоровавшись с Пьером, они продолжали свой разговор.
— Как выслать да опять вернуть, беды не будет; а в таком положении ни за чтò нельзя отвечать.
— Да ведь вот, он пишет, — говорил другой, указывая на печатную бумагу, которую держал в руке.
— Это другое дело. Для народа это нужно, — сказал первый.
— Чтó это? — спросил Пьер.
— А вот новая афиша. — Пьер взял ее в руки и стал читать:
«Светлейший князь, чтобы скорей соединиться с войсками, которые идут к нему, перешел Можайск и стал на крепком месте, где неприятель, не вдруг на него пойдет. К нему отправлено отсюда 48 пушек с снарядами, и светлейший говорит, что Москву до последней капли крови защищать будет и готов хоть в улицах драться. Вы, братцы, не смотрите на то, что присутственные места закрыли: дела прибрать надобно, а мы своим судом с злодеем разберемся! Когда до чего дойдет, мне надобно молодцов и городских и деревенских. Я клич кликну дня за два, а теперь не надо, я и молчу. Хорошо с топором, не дурно с рогатиной, а всего лучше вилы-тройчатки: француз не тяжеле снопа ржаного. Завтра, после обеда, я поднимаю Иверскую в Екатерининскую гошпиталь, к раненым. Там воду освятим: они скорее выздоровеют; и я теперь здоров: у меня болел глаз, а теперь смотрю в оба».
— А мне говорили военные люди, — сказал Пьер, — что в городе никак нельзя сражаться и что позиция...
— Ну да, про то-то мы и говорим, — сказал первый чиновник.
— А что этó значит: у меня болел глаз, а теперь смотрю в оба? — сказал Пьер.
— У графа был ячмень, — сказал адъютант улыбаясь, — и он очень беспокоился, когда я ему сказал, что приходил народ спрашивать, чтó с ним. А чтò, граф? — сказал вдруг адъютант, с улыбкой обращаясь к Пьеру: — мы слышали, что у вас семейные тревоги, что будто графиня, ваша супруга...
— Я ничего не слыхал, — равнодушно сказал Пьер. — А чтó вы слышали?
— Нет, знаете, ведь, часто выдумывают. Я говорю, чтò слышал.
— Чтó же вы слышали?
— Да говорят, — опять с тою же улыбкой сказал адъютант, — что графиня, ваша жена, собирается за границу. Вероятно, вздор...
— Может быть, — сказал Пьер, рассеянно оглядываясь вокруг себя. — А это кто? — спросил он, указывая на невысокого старого человека в чистой, синей чуйке, с белою как снег большою бородой, такими же бровями и румяным лицом.
— Это? Это купец один, т. е. он трактирщик, Верещагин. — Вы слышали, может быть, эту историю о прокламации.
— Ах, так это Верещагин! — сказал Пьер, вглядываясь в твердое и спокойное лицо старого купца и отыскивая в нем выражение изменничества.
— Это не он самый. Это отец того, который написал прокламацию, — сказал адъютант. — Тот молодой сидит в яме, и ему кажется плохо будет.
Один старичок в звезде и другой чиновник-немец, с крестом на шее, подошли к разговаривающим.
— Видите ли, — рассказывал адъютант, — это запутанная история. Явилась тогда, месяца два тому назад, эта прокламация. Графу донесли. Он приказал расследовать. Вот Гаврило Иваныч разыскивал, прокламация эта побывала ровно в 63 руках. Приедет к одному: вы от кого имеете? — От того-то. Он едет к тому: вы от кого? и т. д. добрались до Верещагина... недоученый купчик, знаете, купчик-голубчик, — улыбаясь сказал адъютант. — Спрашивают у него: ты от кого имеешь? И главное, что мы знаем, от кого он имеет. Ему больше не от кого иметь, как от почт-директора. Но уж видно там между ними стачка была. Говорит: ни от кого, я сам сочинил. И грозили и просили, стал на этом: сам сочинил. Так и доложили графу. Граф велел призвать его. «От кого у тебя прокламация?» — «Сам сочинил». — Ну, вы знаете графа! — с гордою и веселою улыбкой сказал адъютант. — Он ужасно вспылил, да и подумайте: этакая наглость, ложь и упорство!..
— А! Графу нужно было, чтоб он указал на Ключарева, понимаю! — сказал Пьер.
— Совсем не нужно, — испуганно сказал адъютант. — За Ключаревым и без этого были грешки, за чтó он и сослан. Но дело в том, что граф очень был возмущен. — «Как же ты мог сочинить?» говорит граф. Взял со стола Гамбургскую газету. «Вот она. Ты не сочинил, а перевел и перевел-то скверно, потому что ты и по-французски, дурак, не знаешь». — Чтó же вы думаете? «Нет, говорит, я никаких газет не читал, я сочинил». — «А коли так, то ты изменник, и я тебя предам суду, и тебя повесят. Говори, от кого получил?» — «Я никаких газет не видал, а сочинил». Так и осталось. Граф и отца призывал: стоит на своем. И отдали под суд, и приговорили, кажется, к каторжной работе. Теперь отец пришел просить за него. Но дрянной мальчишка! Знаете, эдакой купеческий сынишка, франтик, соблазнитель, слушал где-то лекции и уж думает, что ему чорт не брат. Вот это какой молодчик! У отца его трактир тут у Каменного моста, так в трактире, знаете, большой образ Бога Вседержителя, и представлен в одной руке скипетр, в другой держава; так он взял этот образ домой на несколько дней и чтό же сделал! Нашел мерзавца-живописца...