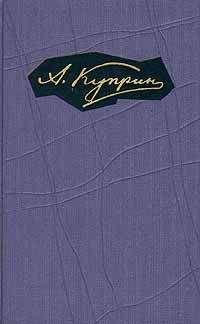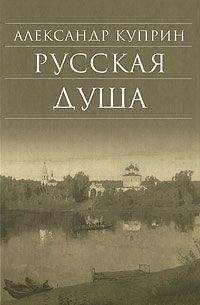Александр Куприн - Том 1. Произведения 1889-1896
Аггей Фомич вообще избегал, по возможности, ходить в гости, потому что это налагало на него своего рода обязательство — принимать у себя. Он был самым бедным чиновником во всей конторе, к тому же еще обязанным накормить и одеть жену, старуху тещу и пятерых детей, на содержание которых никогда не хватало двадцатидвухрублевого ежемесячного жалованья. Каждый, устроенный им по необходимости «балок» производил в домашней экономии страшные бреши, требовавшие для своего исправления сверхъестественного сокращения обыденных расходов. Приходилось надолго отказываться всей семье от мяса в борще, от утреннего чая, от лишнего полена дров. Начальство, приезжавшее изредка на ревизии почтовой конторы, всегда недружелюбно косилось на старый мундир Аггея Фомича, позеленевший, расползшийся по швам, заплатанный, с лоснящимися локтями и воротником. И если оно не смещало Аггея Фомича за небрежность и неприличный вид, то это можно было только объяснить жалостью, которую невольно внушала всякому его длинная, тощая фигура с бледным веснушчатым лицом, украшенным рыжими, очень редкими и короткими усами и бородой, с ласковой и виноватой улыбкой малокровных губ и выцветших светлых глаз.
Аггей Фомич и теперь пришел только вследствие настоятельной необходимости. Его жена, болезненная женщина, всегда ходившая с подвязанными зубами, должна была на днях родить; кроме того, у старшего сына отвалились подошвы на сапогах; и то и другое требовало денег, которых в доме не было ни копейки. Положение стало до такой степени критическим, что Аггей Фомич, победив свою робость, решился во что бы то ни стало на вечере у Ракитина взять у кого-нибудь взаймы несколько рублей. И он сидел теперь за столом взволнованный, бледнее обыкновенного, с замирающим от робости сердцем, нервно потирая руки и ожидая удобного момента, чтобы заговорить о своем деле. Он с сконфуженной поспешностью отказывался от каждого предлагаемого ему куска, из боязни, понятной только беднякам, ввести в лишний расход хозяина.
Гости пили и закусывали. Между ними давно уже шел длинный, неторопливый и скучный разговор о помещике, о начальнике почтового округа, о местном архиерее, о будущем урожае, разговор, до такой степени часто и однообразно повторявшийся, что каждый наперед знал, какой именно анекдот расскажет его собеседник. Раза три или четыре Аггею Фомичу казалось, что удобный момент наступил. Ему казалось удобным под общий разговор незаметно наклониться к помощнику пристава или к учителю и попросить денег. И он уже перегибался в их сторону, готовый тихонько притронуться к их рукаву, чтобы обратить на себя внимание и затем попросить. Но каждый раз невыразимая робость, почти страх, сковывала его движение. Разговор понемногу перешел на то, как теперь стало трудно жить, как все дорого и как редко выслуживаются и попадают в люди мелкие чиновники. Это направление разговора было для всех очень близким и общим, и каждый выразил мнение, что «как там ни говори, а самое главное в жизни все-таки деньги и деньги: при них не нужно быть ни умным, ни красивым, ни тружеником — все равно люди будут всегда преклоняться перед золотым тельцом».
— А ведь я раз чуть не сделался богачом, — сказал задыхающимся голосом Шмидт. — Был я как-то на свадьбе у помещика Порчинского, у того самого, что на Головчине… Собралось там человек двадцать польских панов, и, понятно, после ужина сейчас же штос. У меня было в кармане, не помню, двадцать или тридцать пять рублей. Конечно, где же тут садиться, когда они играют по тысяче рублей. Я стою рядом и смотрю. Только вдруг какой-то помещик, с такими длинными усами, он все понтировал по четвертной, семпелями, говорит мне: «Отчего же вы ничего не поставите?» Я ему отвечаю, что у меня не так много денег, чтобы играть. «Пустяки, говорит, ставьте». Ну, я поставил десять — проиграл, еще десять с какой-то мелочью — тоже проиграл. Меня тогда зло взяло. Был у меня серебряный екатерининский рубль, так, для памяти я его держал. Дай, думаю, поставлю и его. Поставил. Представьте себе — дали. Я на пе — дали. Еще раз на пе, и еще, и еще. Минут в пять сорвал весь банк. Банкомет говорит: «Закладывайте теперь вы». Ну, я, конечно, сел. Мечу. Ну, понимаете, чуть кто крупную карту поставит, я сейчас лусь и убью. Набралось у меня тысяч до пятнадцати. Я уже думаю встать, да все как-то жаль: а ну, как я свое счастье упущу? В это время подходит к столу сам Порчинский, тот самый, который женился-то. «А ну-ка, — говорит мне, — вам в любви везет, так в карты не должно везти. Дайте-ка я заложу». Я говорю ему на это: «Извините, я уже мечу». А он говорит: «Вы? Очень хорошо. Ва-банк!» Все так и рты разинули. Ну, делать нечего, тасую я карты, а он даже и снимать не хочет, и даже не моргнет, каналья. И представьте себе, на второй карте взял все деньги, положил в карман и отошел прочь. «Я, говорит, теперь и метать больше не хочу».
Все слушали рассказ Шмидта с горящими глазами: точно они сами видели эти пятнадцать тысяч и слышали их запах и шелест.
— А вот тоже есть счастливцы, которые выигрывают на билеты, — сказал, вздыхая, отец дьякон (всем было известно, что у него есть билет внутреннего займа). — На днях я читал, ростовщик какой-то двести тысяч цапнул. И хоть бы бедному человеку досталось, а то ведь у этого и без того денег куры не клюют. Истинно неисповедимы пути божий.
— Н-да, — протянул задумчиво и басом учитель, — бывает. А вот, говорят, что если который билет один раз выиграл, то уж в другой непременно выиграет. Правда это или нет?
— Да, говорят, — ответил помощник пристава, — только я не знаю, верно ли… А у нас вот в З. с одним копиистом такой был случай. Служил он в губернском правлении и кое-как сколотил себе билетишко. Как-то раз приходит он в правление, а столоначальник его спрашивает: «Какой номер вашего билета, Сергей Иванович?»
— «Какой, говорит, не помню уже какой, ну, хоть, положим, тысяча сто двадцать третий». — «Поздравляю вас, вы выиграли пятьдесят тысяч». Справились в газетах: точно — тысяча сто двадцать третий — пятьдесят тысяч. Ну, тот прямо обезумел от радости! Обед закатил с шампанским, все его поздравляют, речи говорят. А на другой день в той же газете напечатано, что, мол, по ошибке, вместо тысяча сто двадцать четвертого, напечатан тысяча сто двадцать третий. Так с этим копиистом нервная горячка сделалась.
И один за другим потекли эти избитые, всему миру известные рассказы, похожие один на другой, как две капли воды: о Ротшильде, пришедшем в Париж пешком и продававшем сначала спички на улицах, а потом имевшем сто миллионов годового дохода, о Вандербильте, о подземных находках, о карточных выигрышах, о биржевой спекуляции, о неожиданных американских миллионерах-дядях.
Аггей Фомич, хотя сам и не говорил ничего, но всей душой принимал в этих разговорах участие. Несмотря на свою бесцветную внешность, он, как это часто бывает, обладал удивительно пылким воображением и все, что при нем рассказывалось, представлял необычайно ярко. Разговоры о долгах, о неожиданных богатствах, об этих диковинных, могущественных существах, называемых миллионерами и не знающих отказа ни в одной своей прихоти, взволновали его до лихорадочной дрожи, взволновали тем более, что ему именно в эти минуты были до зарезу необходимы несколько жалких рублей на акушерку и на сапоги мальчику.
— Некоторые тоже находят деньги на улице, — выпалил вдруг неожиданно для самого себя Аггей Фомич.
Все поглядели на него с удивлением, — он до сих пор еще ни слова не сказал во весь вечер. Аггей Фомич сконфузился и потупил глаза в скатерть.
— Как же, находят и на улицах, только… в чужих карманах, — сострил помощник пристава.
Все засмеялись, больше над опрокинутым лицом Аггея Фомича, чем от остроты помощника пристава, и тотчас же каждый рассказал несколько случаев крупных, дерзких, оставшихся неразгаданными краж. И опять перед глазами Аггея Фомича завертелись десятки и сотни тысяч рублей, громадные пачки пестрых ассигнаций, волшебные имена богачей, не знающих счета деньгам. И он слушал с таким же чувством, с каким голодный глядит в окно гастрономического магазина.
Старые, хриплые стенные часы пробили час. Отец дьякон поднялся и, завернув правый рукав рясы, стал прощаться, за ним встали и другие, исключая Аггея Фомича. Он все время, пока Ракитин со свечкой провожал гостей до выходной двери, сидел неподвижно на том же месте, в волнении катая дрожащею рукой хлебные шарики. «Вот сейчас Ракитин вернется, — думал Аггей Фомич, — и я попрошу. Нужно только быть смелее. И ведь в самом деле, не съест же он меня за просьбу?»
Наконец Ракитин вернулся и сел рядом со своим гостем, удивляясь тому, что он не ушел со всеми, но Аггей Фомич, вместо того чтобы сразу попросить денег, затянул длинный и скучный разговор о службе и о жалованье. Ракитин глядел на него слипающимися глазами, делая из вежливости вид, что слушает, и зевая с судорожно закрытым ртом. Так прошло с полчаса. Наконец Ракитин не выдержал и с громким протяжным зевком потянулся.