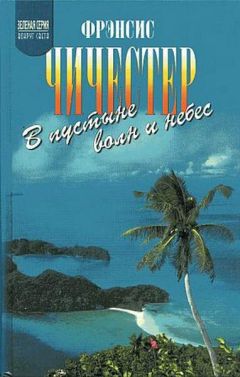Нина Берберова - Курсив мой (Главы 1-4)
Он сорок лет называл меня Ninon, и у меня сохранилось около ста двадцати писем от них обоих. Почти все они начинаются "Дорогая Ninon", и почти в каждом он сам себе удивляется: как это ему удалось написать мне четыре страницы (или две)? Над собой усмешка ("вот все лежу на боку"), перед другими - восхищение, смешанное с ужасом: в город ездит каждый день! Автомобилем правит! Встает в семь! Восхищение, смешанное с ужасом, перед Верой: борщ сварила вовремя! Перед Наташей (дочерью) - как это она все успевает (муж, два сына). И Вера, и Наташа приблизили к нему мир: он оказался не стоящим на месте, а текучим и летучим. И все это было сделано через любовь. Вообще самое главное, что было в доме (в маленькой квартире, где они жили более тридцати лет), - это не вещи, не предметы - здесь не было ни радио, ни пишущей машинки, ни электрических приспособлений, ни музыкальных инструментов, ни картин, ни ковров - самое главное, единственно главное - здесь была любовь.
Я увидела их всех троих впервые еще в Москве, перед нашим отъездом в Берлин в 1922 году. Борис был худ и слаб после сыпняка, а Вера увязывала баулы, чтобы ехать за границу его подкормить ("спасибо Анатолию Васильевичу"). Наташе тогда было лет десять, и у нее, как всякий знает, кто читал его романы и рассказы, были белые льняные косички, эта бледная девочка с косичками проходит во многих его книгах. Она знала, где что выдают и сколько что стоит, и не имела цельных чулок, и, кроме советского быта первых лет коммунизма, другого не знала. В Берлине мы поселились у фрау Паули в комнатах, которые до того занимали они (до переезда к Крампе), и в Париж мы приехали по их следам. Мы видались часто. Он приходил иногда и на Монпарнас. Несмотря на то, что они были тесно связаны друг с другом в течение шестидесяти лет, они не были одним существом, и я больше любила бывать с каждым из них порознь. Как бы ни были близки два человека, я очень часто игнорирую это единство и готова брать каждого в отдельности. Во время войны, когда вс-е вокруг них в Биянкуре было разбомблено, мы одно время жили вместе, в чужой квартире, в Париже, недалеко от Шанде-Марс, и там "вместе дрожали", как говорила Вера, под бомбами.
И они же были опять около меня на вокзале Сен-Лазар, когда я уезжала в США в 1950 году. Она была взволнована: "Забудешь нас, если тeбe будет хорошо в Америке, забудешь нас! Еще замуж там выйдешь. Пусть тебе будет хорошо, только не забудь нас". Он отвел меня в сторону, мы пошли в конец платформы. "Обещайте мне, - сказал он, серьезно глядя на меня, - никогда не обижать Бога". "Боря, - вскричала я, - да ведь он сам всех обижает!" Он покачал головой печально и осудительно. Он знал, как и я, что здесь начинается наше с ним расхождение, которое не может быть остановлено никаким компромиссом. И сколько я ни уверяла себя, что он требует от меня, чтобы я не обижала Бога ради самого Бога, я не могла отделаться от мысли, что он это требует от меня, боясь, что я поколеблю чью-то веру, а может быть, и его собственную.
Потом он перекрестил меня трижды, сказав: "Так у нас, у калуцких, принято". И Вера тоже перекрестила меня. "Греши в меру", - шепнула она мне на ухо, со своей всегдашней милой иронией, под которой бежало серьезное и глубокое. А через десять лет я вернулась в Париж. Она, разбитая параличом, лежала на диване, под образами, где горела лампада, смотрела на меня блестящими радостными глазами и говорила, с трудом ворочая языком, отчего получалось как-то простонародно:
- Бабка... совсем дурой стала... забываю... как город-то называется?..
- Нью-Йорк.
- Живешь... а я вот... ни ног... ни рук... Боря святой, за мной ходит... не отпускает... любовью держит... Бабку свою держишь любовью, говорю, Боря, слышишь? Скажи ей!
Говорить ничего не надо было, все было понятно без слов: он держал ее подле себя тогда три года, а всего - восемь лет. А она - его.
Я рассказывала про свою жизнь в Америке, вспоминала всякие смешные случаи из нашего прежнего общего житья, как однажды С.В.Яблоновский молился у них за упокой души Ленина и как Вера прогнала его (они потом помирились); как однажды Борис пришел ко мне в гости в первом часу ночи (Ходасевич был в отъезде) и просидел до трех, и мы оба от нее на всякий случай это скрыли, но она узнала об этом (кажется, проговорился Ходасевич) и ругала нас за сокрытие такого интересного факта. Вспоминали о том, как во время оккупации, году в 1943-м, что ли, приходили к Ремизову какие-то личности из немецкой газетки, издававшейся в Париже на русском языке, и совали ему деньги и просили дать что-нибудь для печати, и как он деньги взял, но ничего им не дал, и как Вера уговорила его немедленно отослать деньги обратно, что он и сделал. И она с блаженной улыбкой, в белой кофточке, чисто-начисто вымытая, надушенная, не спускала с меня сияющих глаз и только говорила:
- Ну, дальше! Говори дальше! И я говорила пять часов подряд, так что осипла, а потом Борис пошел провожать меня на угол и сказал, что у него грыжа от тасканья ее по квартире, доктор велел, чтобы не отекали у нее ноги, десять минут утром и десять минут вечером, а ему это не под силу. Он сказал, что он вслух ей читает разные старые книги и никогда, никогда уже больше не выходит вечерами.
Но я уговорила его пойти со мной днем есть пельмени в столовую Русской консерватории. И через три дня мы сидели там, за столиком, ели пельмени и пили водку, и сидели часа два друг против друга, пока нам опять не захотелось есть, так что мы заказали еще две порции, и опять сидели и говорили. Он оживился и стал рассказывать о себе, о Вере, о настоящем и прошлом (будущего не было), о безнадежном ее положении и о радости душевной и физической трудности быть вместе с ней. А когда мы вышли, он меня под руку, крепко, по-мужски, и повел по улице.
- Идем, идем... Слушайтесь меня. Вот за этот угол завернем, там ваш автобус.
- Боря, да что же это? Да сколько же вам лет? Откуда вдруг такая прыть и хватка?
- Скоро восемьдесят. У кого хватка была, у того она до ста лет... Давно с женщиной под руку не ходил. Хорошо!
Мы смеясь дошли до остановки, поцеловались, простились и умчались в разные стороны.
В последний раз я увидела его еще через пять лет, в 1965 году, когда снова приехала в Париж. Ее уже не было. После восьми лет паралича она умерла, и он, сойдя с лестницы и подойдя ко мне, разрыдался. Потом он говорил мне, сидя у себя в комнате, что ему тоскливо и что жизнь молодых до него больше не доходит, что он стал слаб, плохо слышит, и спрашивал, замечаю ли я это и нужен ли ему уже слуховой аппарат? Ему не только было утомительно слушать разговоры в столовой, когда сразу говорили несколько человек, но он сказал мне, что ему даже трудно смотреть, как двигаются энергичные, живые люди. Я простилась с ним в сентябре, теплым парижским вечером, и Наташа (дочь его) пошла меня провожать к метро. Теперь она была матерью двух взрослых сыновей - всей семьей они окружали Бориса заботой и любовью. Когда мы с ней говорили о нем, мы всегда называли его "папенькой".
Я сказала:
- Когда я уезжала пять лет тому назад, я знала, что опять увижу его. А теперь я в этом сомневаюсь.
Она ответила:
- Я тоже.
О его "мягкости" было сказано и написано немало, об "акварельности" его писаний и о "теплоте" его отношений к современникам. Но это не совсем справедливо: его дружба с Буниным оборвалась после посещения Буниным советского посла, его дружба с Тэффи дала глубокую трещину после какого-то мелкого недоразумения ("кого куда посадили") не по его вине, но по ее вине. К Ремизову под конец его жизни он относился холодно. С Шмелевым его развела политика во время немецкой оккупации. Конец многолетних (и драгоценных для него) отношений с Буниным (50 лет?) очень мучил его. Он в конце концов решил забыть и простить Бунину его визит в советское посольство и питье за здоровье Сталина, простить - но не понять! Он сделал шаг к нему (через В.Н.Бунину) на том основании, что "мы люди старые, Иван, осталось нас мало...", но встретил такой жестокий и грубый отпор, что даже растерялся. Борис писал мне мельком об этом еще в 1948 году:
"Иван был очень болен (воспаление легких). Но выходили. Завтра его именины. Хочу написав Ивану, что желаю ему доброго здравия... - больше ничего не напишется, но на сердце все же грустно, что так недалека уж вечная разлука и в конце жизни так разошлись".
"Бог с ним", - говорил Борис, но это не значило "ну и забудем его", эго значило на его языке "Бог да будет с ним", с его душой, которая к концу жизни так ожесточилась и так отравилась злобой проiив мира, цветущего своей красотой, против людей, здоровых и далеких от смерти, в то время как он сам, Бунин, уже видит свой конец, отвратительный ему и непонятный, страшный и мерзкий, "венчающий" его "необыкновенную" жизнь.
Ю.Олеша понял Бунина, когда писал: "Он... злой, мрачный писатель. У него... тоска по ушедшей молодости, по поводу угасания чувственности. Его рассуждения о душе... кажутся иногда просто глупыми. Собственный страх смерти, зависть к молодым и богатым, какое-то даже лакейство..." Жестоко, но, пожалуй, справедливо. В эмиграции никто не посмел написать так о Бунине. Но многие из "молодых" думали о нем именно так.