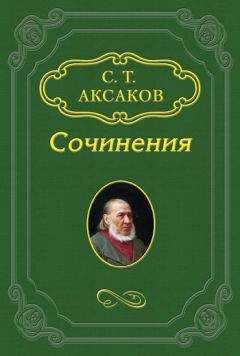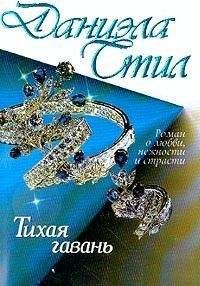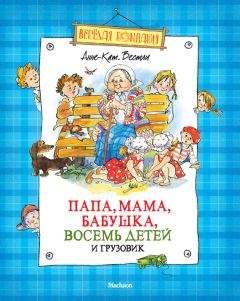В Маклаков - Из воспоминаний
От меня никто не ждал ничего. Но мне самому стало неловко не принимать активного участия в Комитете и ограничиваться позицией "наблюдателя". Я решил по примеру других, представить "записку".
Большинство вопросов, которыми Комитет занимался, были от меня очень далеки. Я подошел к теме самостоятельно и лишь по обыкновению всех, кто имел {333} счастье знать Л. В. Любенкова, пошел с ним посоветоваться и получил от него, уже разбитого параличом, благословение.
Доклад был элементарен и все выводил из ряда теоретических предпосылок. Сельская промышленность есть вид промышленности вообще, а значит для своего преуспевания требует тех самых условий, как и всякая промышленность, т. е. свободы инициативы, огражденности прав и т. п. И из этого я делал все прочие выводы. Я затронул и крестьянский и земский вопросы, выступал против крестьянской сословности, ратовал за расширение компетенции земств и т. д.
Конечно, ко всем этим вопросам я отнесся с той поверхностностью, с которой общественность тогда вообще давала советы. Я ограничивался провозглашением принципов, не думая ни о постепенности, с которой их можно было вводить, ни о том, как примирить равноправие с теми особенностями крестьянского положения, которые для него оставались полезными. Смущаться этими затруднениями казалось такой же отсталостью, как затрудняться наделять безграмотное население полнотой политических прав. Моя записка отражала в себе правильность направления либеральной политической мысли, но и беспомощность в практическом ее осуществлении.
Я мог увидать, насколько нам могло быть полезно прохождение бюрократической школы под руководством таких "реализаторов", каким был Витте. Но на этих главных вопросах я в своей записке остановился недолго. Я перешел к тому, что было более мне знакомо, к благодарной теме о беззащитности обывателя против власти, о бессилии законов в России, о неогражденности личности перед государством, о беззакониях, которые существуют благодаря отсутствию гласности и т. п. В порядке таких рассуждений я дошел до "свободы печати". Но мне в голову не приходило включить в мой доклад о {334} сельскохозяйственной промышленности лозунги Освободительного движения на тему "Долой самодержавие", Мне было ясно, что в этой среде они бы никакого сочувствия не встретили и о них даже говорить бы не стали. Но я не подозревал, что и мой столь умеренный доклад всё-таки окажется "бомбой".
Я послал записку в Звенигород накануне очередного собрания. Председатель управы Артынов, ночевавший у предводителя, мне рассказал, как утром предводитель протянул ему мою записку со словами: "Полюбуйтесь"... Она не могла ему понравиться уклоном в политику, но он сохранил корректность и вида не показал.
Заседание началось с оглашения наших записок. Прения были отнесены к голосованию тезисов. Пока я свою записку читал, многие улыбались, как чему-то знакомому. Иные, особенно мой земский начальник Сумароков, поклонник политики Плеве, делали жесты негодования. В перерыве я ощутил, что попал в "герои". При большем опыте это можно было предвидеть. Но интересно было, как официально отнесется ко мне Комитет и особенно, как в душе будет реагировать его серая масса - крестьянство.
Когда при обсуждении записок очередь дошла до моей, нас ждал сюрприз. Земский начальник Сумароков заявил, что записка не имеет отношения к делам Комитета и что он протестует против ее обсуждения. Это был для Комитета неожиданный тон. Председатель его осадил. Он объяснил, что один ответствен за ход работ, что записку считает относящейся к делу, но что, если Сумароков хочет, он может от обсуждения ее воздержаться. Сумароков просил отметить его заявление в протоколе, но в зале остался. Началось обсуждение. Первые главы записки, крестьянский и земский вопросы, бесспорно входили в тему занятий, а некоторые на первый взгляд безобидные {335} тезисы (Крестьянский Банк) вызвали неожиданные споры. Протест Сумарокова обнаруживал свою тенденциозность и ему стало совестно. Вопреки первоначальному заявлению, он принялся делать замечания с места, вполне приличные, иногда даже благожелательные к моим тезисам, и только когда очередь дошла до более щекотливой главы о "ответственности должностных лиц" за беззакония, он уже другим, мирным тоном, как будто чтобы оправдать недавнюю выходку, сказал, обращаясь ко мне: "Но послушайте, В. А., какое же отношение имеет это к сельскому хозяйству?.." Тут последовал для него главный конфуз. Один из крестьянских земских гласных, типичный домохозяин, в армяке, с длинной бородой, не раз принимавший участие в прениях, при том в самом охранительном смысле, неожиданно встал и, обращаясь к председателю, заявил:
- Ваше сиятельство, это самое главное...
Это замечание, вышедшее из крестьянской консервативной среды, произвело громадное впечатление. В дальнейшем я для приличия стал приводить к каждому тезису пояснение, почему эти тезисы, даже свобода печати, к сельскому хозяйству всё же относятся. Со мной больше не спорили. Правые члены Комитета, вероятно, довольные той умеренностью, которую я обнаружил в политической области, видя, что обычно послушная крестьянская масса не с ними, не захотели углублять задетых мною вопросов и предпочитали молчать; все мои тезисы прошли единогласно. Это, конечно, не означало, что Комитет был с ними согласен и даже что их понимал. Это было общим явлением. Так "проводили" резолюции через неподготовленные к ним собрания. В демагогии мы были искуснее наших противников.
Мое выступление сыграло некоторую роль в моей личной судьбе. Репрессий ни против Комитета, ни {336} против меня принято не было. Обязаны ли мы были эти влиянию предводителя или такту губернатора Булыгина, я не знаю. Но зато лично мне была сделана ими незаслуженная, но характерная реклама.
Она была усилена позднейшей подробностью. Предводитель решил особой книжкой издать работы Комитета. Губернатор поставил условием, чтобы мой доклад был опущен. Предводитель отказался ему подчиниться, если я сам не буду на это согласен; иначе он предпочитает книжку вовсе не выпускать. Конечно, я спорить не стал; были напечатаны только мои тезисы с примечанием, что "по просьбе председателя Комитета и с согласия автора самый доклад не печатается". Мой доклад опубликования и не заслуживал; но загадочное примечание в связи с характерными тезисами подстрекнуло любопытство и обратило на меня внимание нашей общественности.
Я в этом скоро мог убедиться. В. М. Гессен, с которым я в то время еще не был знаком, выпуская книгу о работах Сельскохозяйственных Комитетов, просил меня прислать ему мой доклад и посвятил в своей книге моим тезисам больше внимания, чем они стоили. А в результате его книги я не успевал мой доклад перестукивать и посылать его тем, кто за ним ко мне обращался. Он в общем нравился "умеренностью". Даже мой брат Николай, бывший тогда начальником отделения казенной палаты в Тамбове, выразил мне в письме удовольствие. Неожиданно для себя я попал в "общественные деятели"; в это политическое "утро любви" всё было просто и мало требовалось, чтобы оказаться в среде героев общественности. Думаю, что этому докладу я был обязан приглашением меня в "Беседу".
Эпизод Звенигородского комитета не стоил бы упоминания, если бы он не был характерен для общего настроения этого времени, когда перед Россией {337} были открыты еще обе дороги. Мы стояли на грани революционной бури, но буря еще не начиналась. Настроение страны не было революционным, ни в низах, ни в верхах. Власть имела возможность примирить с собою страну.
Но из того, что обывательская масса революции не хотела, а о конституции не слыхала, не следовало заключать, будто она была своей судьбой довольна. Когда мой старый крестьянин по вопросу о злоупотреблениях власти объявил: "Это самое главное", это было откровением, на которое закрывать глаза для умной власти было бы опасно. Но зато в совместном устранении этого зла была прекрасная почва для примирения с обывателем.
Это мое выступление в Комитете стоит одиноко и могло иметь интерес только для моей биографии. Но дальнейшие события в России развивались сами собой. В августе было опубликовано положение о Булыгинской Думе. Этот акт вызвал бы удовлетворение, если бы появился в декабре 1904 г., при Мирском. Теперь же никто в общественности его не принял всерьез. На ближайшем, сентябрьском, Земском Съезде, единственный вопрос, который всех занимал, был вопрос о бойкоте или об участии в выборах. Тактика бойкота представлялась вообще более левой, непримиримой, решительной; в этом для многих была ее привлекательность. Но земцы имели преимущественную возможность быть выбранными и бойкот им не улыбался. "Земское бюро" предложило участвовать в выборах. Однако и сторонники этой тактики не предполагали лояльно исполнять обязанности, которые на членах Булыгинской Думы лежали. Бойкот они противополагали вхождению в Думу, чтобы взрывать ее изнутри. Такова была позиция "Освобождения".