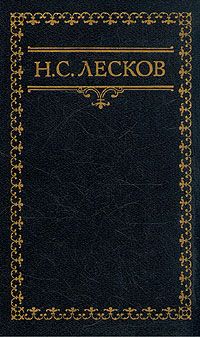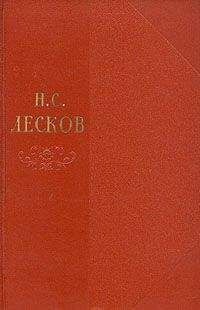Ион Друцэ - Бремя нашей доброты
А дело тем временем движется. Печь по-прежнему угрюмо молчит, она еще дышит холодом, но цепочки горячих причудливых змеек ручейком потекли под поленья. Тут потолкутся, да все напрасно, там затрепещут новым дыханием, хотя и не рассчитывали на это. И мечутся, и мечутся, и то свяжутся единым клубком, то, рассорившись, разлетятся кудрявыми брызгами, и уже каждый сам себе голова. Они еще ничего не соображают, ничего не умеют, все эти дурачества перешли к ним по наследству от прошлого огня, шумевшего в этой печи, да только попробуй сказать им об этом. Они ничего не видят, не слышат, они сами себе голова. Все им дается легко, но они этому не рады, им бы только побегать, порезвиться, и, глядя на эти бесконечные дурачества едва занимающегося огня, Карабуш вспоминает свое далекое детство. Каким прекрасным нам видится тогда мир, как ловко нас жизнь заманивает все дальше, вглубь, и в этом есть большой смысл, без этого священного обмана, видимо, и самому огню не обойтись.
За детством ходит юность по пятам и старается прийти пораньше, урвать кусочек, потому что, кто знает, может быть, зрелый возраст, в свою очередь, тоже придет раньше, чем ему бы следовало. Юность - это прекрасная пора великого нескончаемого удивления. Казалось бы, до чего все просто - тут печь, тут выходящий через крышу на улицу дымоход, и что же в этом удивительного? А огню вот интересно. То дотянется красной лапкой, то начнет принюхиваться, и вдруг, став на цыпочки, скрутившись жгутом, пламя выскочило на улицу. В доме снова тихо и темно. Кончилась топка, огонь потух. Пламя убежало, но несколько обгорелых поленьев, чуть искрясь, дежурят, освещая в темноте обратный путь, и это было неспроста. Пламя блуждало недолго. Оно вернулось. И страшно, и стыдно, и зябко ему. Огонь принимается по-взрослому за дело, и, обхватив посильную для себя охапку поленьев, дышит на них, сжимает, сплетает, увязывает их меж собой, и в этих тяжелых, немыслимых трудах, глядишь, и прошла юность.
Теперь в печи сплошной рев. Большие поленья стоят целехонькие, они едва успели обуглиться, а кругом бушует море огня. Пламя то собьется в единый слепящий клубок, то рассыплется брызгами, точно с наковальни, потом стихнет, и в ту секунду немыслимой тишины оно молча, упиваясь собой, горит вовсю, и все этому огню мало: мало любви, такой, чтобы испепелиться, мало ненависти, такой, чтобы замертво сразить.
По смуглым морщинистым щекам Карабуша блуждает слезинка. Он смотрит на молодость огня, не мигая, не дыша, потому что молодость - это то великое чудо, которое его всегда завораживало. Всю жизнь, встречая это чудо, он гадал про себя: выдержит ли оно, созреет ли умом и духом, чтобы совладать с отпущенной силой, или надломится, поплатившись гибелью за свое неосмысленное богатство?
Слава богу, обошлось. Отбушевали страсти. Большой венок горячих маковых головок, рассыпанных в печи, все играя тенями, вдруг в какое-то мгновение превратился в рыжую Молду, дремлющую у порога. Мирно лежит на вытянутых лапах такая смурная, такая отчаянная, такая верная голова... Размеренно, в такт дыханию, трепещут ноздри, нервно вздрагивают веки, и лохматая, латаная-перелатаная шкура замерла в ожидании прикосновения любящих рук. И в самом деле, старческая рука поднимается с коленей, но нет, нельзя же, она строгая, она этого не любит...
А слезинки текут и текут по щекам Онакия, потому что две мировые войны, и Тинкуца, и бурный Днестр, и Чутура, и паханое-перепаханое из года в год поле - все это вдруг приняло один-единственный облик. И если бы только одно это чудо было в жизни, то и тогда бы стоило жить! Гремят медью тридцать степных колоколен, да что ему, Карабушу, в этом перезвоне. Он счастлив, он счастлив как никогда: еще минута - и он выйдет на улицу, позовет людей, чтобы показать им это великое чудо, имя которому - Молда. Боже мой, сколько она блуждала по этому краю в поисках хозяина! Искала человека, может, и не очень богатого, и не очень мудрого, но верного, потому что в ее понимании жизнь - это прежде всего верность. И вот она нашла дом Карабуша, пришла к нему, залезла на охапку трухлявой соломы, и люди бог весть из каких далей наведывались, чтобы посмотреть на нее своими глазами, ибо была она в ту пору живой легендой.
Теперь уже мало кто помнит те холодные, те голодные дни, когда налетели серые хищники. А пережившие те времена знают, что все висело на волоске. И, кто знает, как бы все обернулось, если бы не смелость, отчаянность этой рыжей Молды, если бы не ее бесконечная преданность простому роду плугарей.
Карабуш медленно приподнимается со стульчика, он готов позвать за собой собаку, выйти с ней на улицу, показать ее людям, да только вдруг в последнюю минуту залетает невесть откуда маленькая черная бабочка. Залетела в печь и мечется. То опустится на уши, то на хвост верной Молде, да опускаться нельзя, сгоришь ни за что, и, едва вытянув ножки, она тут же подбирает их под себя и все летит, мечется. Карабуш прикидывает, как бы ей помочь выбраться оттуда, но пока он примеривался к кочережке, в печь залетела еще одна бабочка. Эти твари слетелись на огонек, с горя что ли спарились, и тут же развелось в печи их многочисленное потомство. Не успел Онаке опомниться, а в печи одни черные бабочки. Они облепили бедную Молду своими черными крылышками, они ее живьем захоронили; стало тихо и пусто в доме.
- Вот ведь пакость какая!
Всему свое время - это была старая как мир истина, но Онакию показалось, что тут что-то не так. Откуда, собственно, берутся эти черные бабочки? Они нам кто - свои или чужие, друзья или враги? Это нужно было обязательно выяснить, и вот он поднимается со своей скамеечки, приносит в дом другую охапку поленьев, и все начинается сначала. Мелькнет крохотное, всегда счастливое детство, отмается, отлюбопытствует юность, перебушует молодость, потом созреют угли, сложатся в самое что ни на есть для тебя заветное, да только откуда ни возьмись - снова черные бабочки.
Это становилось просто непостижимым - откуда, каким образом залетают они к нам? Озадаченный старик снова выходит в сенцы за охапкой дров. К сожалению, летом его не было дома и некому было припасти на зиму побольше топлива. Он сжег и заборы, и калитку, и ворота, и последняя молитва Онакия к небу была относительно дров, хотя бы хворосту, хотя бы самую малость, чтобы понять, что к чему в этом мире, но небо величественно и мудро молчало.
Было бы чем набить печь, он, глядишь, добрался бы до рассвета, но топить было нечем. Поздней ночью, после третьих петухов, печь потухла, а на рассвете скончался и сам Онаке Карабуш. Умер он, сидя на той же маленькой скамеечке, и даже мертвым он продолжал сидеть и будто топил печь. Только низко опущенная на грудь голова, казалось, делала последнюю попытку постигнуть эту удивительную нелепость - с такой доверчивостью мы приходим в этот мир, с такой радостью бросаемся ко всему живому, с такой готовностью отдаем себя малейшей искре, с такой быстротой загораемся. Кажется, конца и края нам не будет. Горами завали нас, мы и горы переплавим, в небо нас закинь, и мы по всей голубизне разойдемся, но вдруг налетят черные бабочки, зашьют все своими крылышками, и всему наступает конец.
Сорокская степь...
Наказано было этой земле кормить, и она кормит. Она старательно отдается из года в год стихии изобилия, и нет конца этим тоннам, этим гекалитрам, этим вагонам и цистернам. А за этим изобилием стоит все тот же тихий, замешенный на мягкой латыни говор - язык, умеющий одинаково складно благодарить и проклинать, смеяться и плакать. А вокруг, на сколько хватит взгляда и еще дальше, до самой слезинки, широкие горизонты со сказочно голубыми, мелкими холмиками - не то они на самом деле есть, не то они тебе мерещатся. И меж этими широкими проломами неба - степь.
Сорокская степь...
Здесь все могло быть. Говорят даже, что много тысяч лет тому назад стояло тут широкое, ласковое море. Но и у морей есть свои сроки, они тоже в положенное время собирают свои пожитки. Ушло и это море, оставив степи в наследство широкий простор с мелкой, едва прописанной волной.
А еще говорят, давным-давно шумели здесь глубокие, дремучие леса. То ли бури их снесли, то ли пожары буйствовали над ними, но пришло время, отцвели они в последний раз, наказав всему земному миру цвести.
А может статься, дымились здесь высокие, всемирно известные горы. Время ли их не пожалело, земле ли не под силу их было нести, но ушли они дорогой гор, и только степные орлы все еще пропадают целыми днями в головокружительной синей высоте, отыскивая древние кручи исчезнувших вершин.
Сорокская степь...
Широкое, бескрайнее поле чернозема, чуткое, доброе сердце, жадные до работы руки и сложную, трудную судьбину - это получают степные пахари в день своего рождения, с этим прощаются последним сознанием своим. Большего у них в жизни не было, а меньшего им не хотелось.
1961-1967, 1982
ПРИМЕЧАНИЯ
Роман "Бремя нашей доброты" писался автором на протяжении нескольких лет. Первая книга романа - "Степные баллады" - была впервые опубликована в журнале "Дружба народов" № 1 за 1963 год и выходила затем книжным изданием в издательстве "Молодая гвардия". Вторая часть романа - "Бремя нашей доброты" - также публиковалась впервые в журнале "Дружба народов" № 1 за 1968 год. Обе части романа были опубликованы совместно в приложении к журналу "Дружба народов" (М., "Известия", 1968), а в 1969 году вышли отдельной книгой в издательстве "Молодая гвардия". Впоследствии роман не раз переиздавался, и всякий раз автор вносил в него изменения, уточнения. В наиболее завершением виде роман был опубликован в книге И. Друцэ "Белая церковь". "Бремя нашей доброты" (М., "Молодая гвардия", 1983).