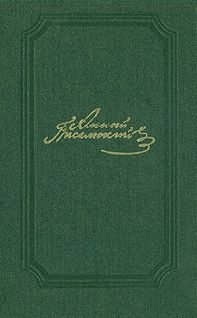Алексей Писемский - В водовороте
Елена слушала Жуквича все с более и более разгорающимися глазами.
– Все это так-с! – произнесла она. – Но все это, как хотите, очень бледные начинания, тогда как другое-то, старое, отжившее, очень еще ярко цветет!
– А вы думаете ж, что начинания в каждом деле мало значат?.. – произнес с чувством Жуквич. – Возьму вами ж подсказанный пример… – продолжал он, устремляя вдаль свои голубые глаза и как бы приготовляясь списывать с умственной картины, нарисовавшейся в его воображении. – Взгляните вы на дерево, когда оно расцветает, – разве ж вся растительная сила его направляется на то, чтобы развивать цветки, и разве ж эти цветки вдруг покрывают все дерево? – Нисколько ж! Мы видим, что в это ж самое время листья дерева делаются больше, ветви становятся раскидистее; цветы ж только то тут, то там еще показываются; но все ж вы говорите, что дерево в периоде цветения; так и наше время: мы явно находимся в периоде социального зацветания!
– Это хорошо! – воскликнула Елена. – Эти бедные социальные цветки поцветут-поцветут да и опадут, а корни и ветви останутся старые.
– Да нет ж: эти цветки дадут семена, из которых начнут произрастать новые деревья!
– С такими точно корнями и ветвями, как и прежние! – подхватила Елена.
– Нет, с другими ж, с другими! – произнес многознаменательно Жуквич.
– Ах, не думаю, что с другими!.. – сказала грустным голосом Елена. – Может быть, у вас там в Европе это предчувствуется, а здесь – нисколько, нисколько!
– Но как ж меня заверяли, и наконец, я читал ж много, – перебил ее с живостью Жуквич, – что здесь социалистические понятия очень хорошо прививаются и усвоиваются…
– В Петербурге – может быть! – сказала ему Елена.
– Нет, здесь, именно ж в Москве! – повторил настойчиво Жуквич.
Елена сомнительно покачала головой.
– Прежде еще было кое-что, – начала она, – но и то потом оказалось очень нетвердым и непрочным: я тут столько понесла горьких разочарований; несколько из моих собственных подруг, которых я считала за женщин с совершенно честными понятиями, вдруг, выходя замуж, делались такими негодяйками, что даже взяточничество супругов своих начинали оправдывать. Господа кавалеры – тоже, улыбнись им хоть немного начальство или просто богатый человек, сейчас же продавали себя с руками и ногами.
– Грустно ж это слышать, – сказал Жуквич в самом деле грустным голосом, – а я ж было думал тут встретить участие, сочувствие и даже помощь некоторую, – присовокупил он после короткого молчания.
– Но в чем вам, собственно, помощь нужна? – спросила его Елена.
Жуквич опять некоторое время обдумывал свой ответ.
– Я – поляк, а потому прежде ж всего сын моей родины! – начал он, как бы взвешивая каждое свое слово. – Но всякий ж человек, как бы он ни желал душою идти по всем новым путям, всюду не поспеет. Вот отчего, как я вам говорил, в Европе все это разделилось на некоторые группы, на несколько специальностей, и я ж, если позволите мне так назвать себя, принадлежу к группе именуемых восстановителей народа своего.
– То есть поляков, конечно? – подхватила Елена.
– О, да! – подтвердил Жуквич.
– А вы знаете, что я ведь тоже полька? – сказала Елена.
– Да, знаю ж! – воскликнул Жуквич. – И как землячку, прошу вас не оставить меня вашим вниманием! – прибавил он с улыбкою и протягивая Елене руку.
– В чем только могу! – проговорила она, подавая ему взаимно свою руку и отвечая на довольно крепкое пожатие Жуквича таким же крепким пожатием.
– Но я прошу вас, панна Жиглинская, об одном! – присовокупил он затем каким-то почти встревоженным голосом. – Все ж, о чем я вам говорил теперь, вы сохраните в тайне…
– Разумеется, сохраню в тайне! – подхватила она.
– В тайне ж от всех, даже от князя! – говорил Жуквич тем же встревоженным голосом.
– И от князя? – переспросила Елена.
– Да… Я князя давно знаю. Он не любит ж поляков очень, а я ж сосланный!.. На меня достаточно глазом указать, чтоб я был повешен… расстрелян…
– Извольте, я и князю не скажу!.. – отвечала Елена, припоминая, что князь, в самом деле, не очень прилюбливал поляков, и по поводу этого она нередко с ним спорила. – Но надеюсь, однако, что вы будете бывать у нас.
– Если вы мне позволите то! – отвечал Жуквич, уже вставая и приготовляясь уйти.
– Я даже буду просить вас о том! – подхватила Елена. – Приходите, пожалуйста, без церемонии, обедать, на целый день. Послезавтра, например, можете прийти?
– Могу.
– Ну, так и приходите! – заключила Елена.
При окончательном прощании Жуквич снова протянул ей руку. Она тоже подала ему свою, и он вдруг поцеловал ее руку, так что Елену немного даже это смутило. Когда гость, наконец, совсем уехал, она отправилась в кабинет к князю, которого застала одного и читающим внимательно какую-то книгу. Елпидифор Мартыныч, не осмеливавшийся более начинать разговора с князем об Елизавете Петровне, только что перед тем оставил его.
– А у меня все сидел этот Жуквич, который привез мне письмо от Миклакова! – сказала Елена.
– Что такое тебе пишет Миклаков? – спросил ее князь, не оставляя своего чтения.
– Ничего особенного! – отвечала Елена и села на кресло, занимаемое до того Елпидифором Мартынычем. – Я позвала Жуквича послезавтра обедать к нам!.. – присовокупила она.
– Зачем? – спросил как бы с некоторым недоумением и даже неудовольствием князь.
– Затем, что он здесь заезжий человек… никого не знает.
Князь на это промолчал, и Елена, по выражению его лица, очень хорошо видела, что у него был на уме какой-то гвоздик против Жуквича.
– Ты знал его за границей? – спросила она.
– Знал!.. – отвечал протяжно князь.
– Что же, по-твоему, он за человек?
– Черт его знает, что за человек!.. Что поляк – это я знаю! – произнес князь, продолжая свое чтение.
– Но что тут дурного, что он поляк? – возразила ему насмешливо Елена.
Князь ей на это ничего не сказал и, как будто бы даже не расслышав ее слов, принялся что-то такое выписывать из читаемой им книги.
Елене, наконец, сделалось досадно это полувнимание к ней князя.
– Что ты тут такое делаешь? – начала она приставать к нему.
Елена еще и прежде спрашивала об этом князя, но он все как-то отмалчивался.
– Так себе, ничего! – сказал было он ей и на этот раз; но Елена этим не удовольствовалась.
– Вовсе не так, а непременно делаешь что-то такое большое!.. Отчего ты не хочешь сказать мне?
– Оттого, что нельзя говорить о том, что у самого еще смутно в голове.
– Это ничего не значит; ты мне должен сказать, и ты вовсе не потому не говоришь, – вовсе не потому!
– Почему же?
– Да потому, что я знаю почему; во-первых, я вижу по книгам, ты что-то такое по русской истории затеваешь – так?.. Да?
– Может быть, и по русской истории.
– Но что из нее можно написать?.. Все уж, кажется, написано!
– Нет, много еще не написано.
– А именно?
– А именно, например, – начал князь, закидывая назад свою голову, – сколько мне помнится, ни одним историком нашим не прослежены те вольности удельные, которые потом постоянно просыпались и высказывались в московский период и даже в петербургский.
Елена рассмеялась громким смехом.
– Вольности еще какие-то нашел! – произнесла она.
Князь при этом покраснел несколько в лице.
– Никаких я вольностей, признаюсь, у русского народа не вижу, – продолжала Елена.
– Ты не видишь, а я их вижу! – сказал князь.
– Но где, скажи, докажи? – воскликнула Елена.
– Вольности я вижу во всех попытках Новгорода и Пскова против Грозного!.. – заговорил князь с ударением. – Вольности проснувшиеся вижу в период всего междуцарствия!.. Вольности в расколе против московского православия!.. Вольности в бунтах стрельцов!.. Вольности в образовании всех наших украйн!..
– Какой же результат всех этих вольностей?.. Петербург?.. – возразила ему Елена.
– Я говорю не о результатах, а о том, что есть же в русском народе настоящая, живая сила.
– Тебя за эту статью, если ты только напечатаешь ее, так раскатают, так раскатают, как ты и не воображаешь! – произнесла Елена.
– Но за что же?.. Я могу дурно выполнить, дурно написать – это другое дело; но не за самую мысль.
– Нет, за самую мысль, потому что в ней ложь и натяжка есть.
– По-твоему – натяжка, а по-моему, как говорит мое внутреннее чувство, она есть величайшая истина.
– Чувство ему говорит!.. История – не роман сентиментальный, который под влиянием чувства можно писать.
– Нет, именно нашу историю под влиянием чувства надобно было бы написать, – чувства чисто-народного, демократического, и которого совершенно не было ни у одного из наших историков, а потому они и не сумели в маленьких явлениях подметить самой живучей силы народа нашего.
– Никакой такой силы не существует! – произнесла Елена. – Ведь это странное дело – навязывать народу свободолюбие, когда в нем и намека нет на то. Я вон на днях еще как-то ехала на извозчике и разговаривала с ним. Он горьким образом оплакивает крепостное право, потому что теперь некому посечь его и поучить после того, как он пьян бывает!