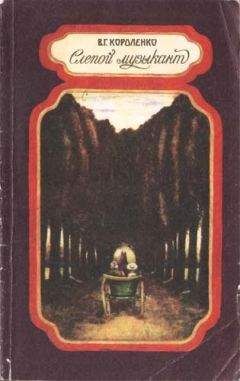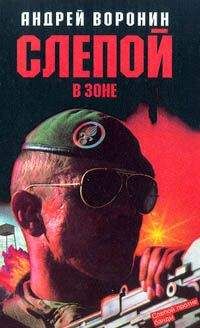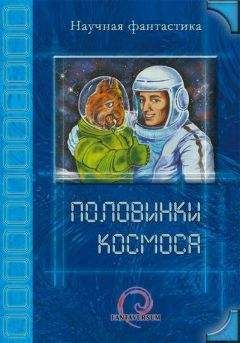Владимир Короленко - Том 1. Рассказы и очерки
Потом месяц стал углом на последнюю из досок, постоял на ней с полминуты и скрылся из моего тесного горизонта, оставив меня в моей конурке с сердцем, преисполненным тоской, разнеженностью от воспоминаний и сожалением о себе… К глазам в этой темноте подступали слезы. Мне хотелось кинуться на свою кровать, уткнуться лицом в подушку и, пожалуй, заплакать, как я плакал когда-то ребенком.
Но я этого себе не позволил. Во все время моих скитаний по тюрьмам я старался строго держать себя в руках и никогда не позволял себе в заключении трех вещей: спать днем, валяться на кровати, когда не спишь, и затем — отдаваться этим порывам разнеженности, когда к ним соблазняло одиночество, тоска и порой расстроенные нервы.
И теперь я не поддался, даже не лег, и стал думать: что же, однако, значит это странное обращение со мной? И зачем меня посадили в эту клетку, явно назначенную для самого строгого, из ряду вон, заключения? Тысяча самых диких мыслей приходила мне в голову. Мне стало казаться, что я никогда уже не выйду отсюда: я вспоминал выражение лица Лысогорского и тихое перешептывание с полицмейстером, ласковое сожаление в красивых и беспечных глазах последнего, новый шепот его со смотрителем и каменное лицо «его благородия». Потом вспоминался самый род моего исключительного преступления, которое, как мне сказал добряк губернатор в Перми, не предусмотрено кодексом обыкновенных наказаний, но и безнаказанным остаться не может. Потом пришло на память обстоятельство, которое вовсе не казалось странным в свое время: что этот добряк уехал из города накануне моей высылки, — и теперь я объяснил это побуждением Пилата, умывающего руки…
Все это было дико, мрачно, нелепо, но ведь положение мое тоже было и дико, и мрачно… Я посмотрел на крепко запертую дверь, на железную печку, на стены каменного мешка… Здесь можно погибнуть безвестно и навсегда… Потом пришло в голову, что если закрыть эту печку с угаром…
Вообще начинался какой-то странный кошмар…
III— Барин, возьмите свечку!
Отверстие в стене, вроде печной дверки, открылось; в него мелькнул свет, и протянулась рука с подсвечником. Камера осветилась, но не стала приветливой. Я взял свечу не торопясь. Мне хотелось заговорить с моим сторожем. Голос, которым он сказал эти слова, был грудной и приятный. В нем слышались простые ноты добродушного человека, и я тотчас же вспомнил, что это тот самый, который первый пригласил меня в келью деликатным «пожалуйте».
И, взяв свечу из руки, я сказал, наскоро придумавши предлог для продолжения разговора:
— Послушайте, я голоден.
— Ах, барин, — ответил невидимый сосед, — нынче вы уже не записаны, вам не полагается.
— В конторе мои деньги, нельзя ли сходить купить чего-нибудь.
— И, барин, невозможно! Здесь строго. Кабы в общей или в подследственной, а здесь ведь военно-каторжная.
Он говорил тихо, как будто боялся, что наш разговор кто-нибудь все-таки может услышать. Потом как-то нерешительно протянул руку, взялся за заслонку, чтобы закрыть ее, рука еще задержалась, как бы в нерешительности, и, наконец, он захлопнул дверку.
Тогда я сразу почувствовал, что я действительно очень голоден. С утра я напился только чаю, рассчитывая, что мы приедем еще рано в Тобольск. Я думал, что мы только явимся к полицмейстеру и тотчас же поскачем дальше. Остановка в этом мешке совсем не входила в мои расчеты. Теперь, несмотря на волнения этой неожиданности, голод вступил в свои права. Я поставил свечку на уступе железной печки и разложил свою постель на кровати. Потом опять сел, попробовал было взглянуть в окно, но клочок неба был темен, а доски подошли совсем близко, освещенные желтым огнем из моего окна. Я отвернулся и стал оглядывать стены. Заслонка опять тихо отворилась. Я подошел к ней. Рука протянулась, и сторож просунул деревянную чашку, в которой было немного щей, и кусок хлеба.
— Не побрезгуете, может, — сказал он с радушием простого человека.
Я немного колебался.
— Не побрезгуйте, — повторил он.
— А сами вы? — сказал я нерешительно.
— Мне что. Я обедал. А вам с дороги.
Это была правда. Я победил в себе легкий протест против этой подачки тюремщика, в лице которого видел теперь простого, доброго и деликатного человека. Я взял чашку и хлеб… Через четверть часа он заглянул в круглое отверстие двери и сказал:
— Кончили, господин?
— Кончил, спасибо.
— Пожалуйте чашку. А то скоро поверка будет. Смотритель увидит у вас мою чашку. Неловко.
Добрый человек, очевидно, опасался обнаружить перед «его благородием» излишнее по отношению ко мне добросердечие.
Действительно, вскоре в мою конурку проник заглушенный стенами рокот барабана, и через четверть часа в комнате сторожа столпились звуки шагов, голоса, звякание шпор и стук прикладов. Моя дверь быстро отворилась, и все эти звуки хлынули в мою одиночку. Несмотря на привычку, трудно преодолеть некоторое смущение, когда дверь отворяется и десяток незнакомых людей смотрят на вас лишь затем, чтобы смотреть. Впереди стоял офицер, еще молодой и потому тоже несколько смущенный. Рядом виднелось каменное лицо «его благородия». Последний окинул опять мою конурку, меня и мои вещи загадочным взглядом, в котором я прочитал что-то вроде внутреннего удовлетворения. «Его благородие» находил, по-видимому, что все идет совсем хорошо.
— Тридцать четыре! — прочитал офицер по списку.
Фельдфебель ответил: «Есть!» — и дверь опять захлопнулась.
Я чувствовал себя усталым, не спал от самого Екатеринбурга, где в то время кончался железнодорожный путь, или спал только в почтовой телеге. Поэтому я позволил себе лечь раньше обыкновенного.
Эпизод с чашкой и присутствие за стеной добродушного человека разогнали пока мои мрачные мысли. Я лег и заснул вскоре крепким и беззаботным сном.
IVНаутро, проснувшись довольно рано, я быстро оделся, умылся из кружки над «парашкой» и стал оглядывать свое жилище…
Прежде всего мне бросилось в глаза на стене большое пятно, продолговатое, точно написанная строчка. Подойдя ближе, я увидел, что это была действительно надпись, глубоко врезанная гвоздем в стену и после тщательно сцарапанная скребком. Очевидно, это была фамилия моего предшественника, прежнего жильца этой камеры. Казалось, разобрать ее было совершенно невозможно. Я подумал, что мне может разрешить этот вопрос мой сторож, и потому, тотчас после поверки, постучал в дверку.
— Послушайте, — сказал я.
— Чего тебе? — ответил грубый голос.
Я с грустью убедился, что у меня сменили сторожа. Это был теперь тот из двух моих вчерашних провожатых, который первый назвал меня на «ты» и грубо требовал, чтобы я вошел в камеру.
— Во-первых, незачем «тыкаться», — сказал я, по возможности спокойно.
— Поговори у меня!
Я отошел от двери.
Нет таких иероглифов, которых нельзя было бы разобрать, сидя в одиночке. Я по десяти раз подходил к затертой надписи и простаивал перед ней по получасу. Она интересовала меня тем более, что, кроме нее, нигде на стенах камеры не было написано ни одного словечка, тогда как обыкновенно стены всех камер исписаны кругом. Кусок карандаша, а то уголек, гвоздь или обожженный конец спички служат орудиями этой стенной тюремной литературы. «Здесь еврей N страдал без вины», — такова была первая надпись этого рода, которую я прочитал во время первого же моего ареста в полицейском участке. Затем утомительный ряд черточек на стене отмечал день за днем бесконечную вереницу этих дней, проведенных страдавшим без вины евреем. Помню, я насчитал их тогда семьдесят две, и мне казалось совершенно немыслимым, чтобы меня, именно меня, Владимира Короленко, ни в чем не обвиняемого, могли продержать дольше этого срока. Потом и я начал ставить свои черточки, и — увы! — если сосчитать все число дней, которое я провел, как и этот неведомый страдалец, в четырех безмолвных стенах, то их оказалось бы во много раз больше!
Обыкновенно к этим начертаниям начальство относится довольно терпимо. В пересыльных тюрьмах Сибири стены сплошь исписаны этими обращениями к будущим жильцам камер. «Скажите, братцы, Дуньке Полтавской, станет ее Никифор поджидать в Ачинске». «Братцы, Иван Семенов из Тюмени — изменник общества». «Прошел в сентябре месяце Павел Гаркушин на каторгу. Кланяюсь землякам». И т. д., и т. д. Порой лирическое излияние, в прозаической или стихотворной форме, разнообразит эти своего рода публикации, вызванные желанием оставить где-нибудь слух о своей горькой жизни или передать деловое сообщение.
В моей камере все эти надписи были тщательно затерты, и по ним еще побелили известкой. Оставалась одна в виде широкого, длинного углубления, врезанная слишком глубоко для того, чтобы можно было ее уничтожить бесследно.
Исследуя ее, я заметил, во-первых, что рытвина разделялась на две части. Вторая часть была короче. Очевидно, фамилия состояла из меньшего числа букв, чем имя. Имя говорило мне мало, фамилия могла быть все-таки известна…