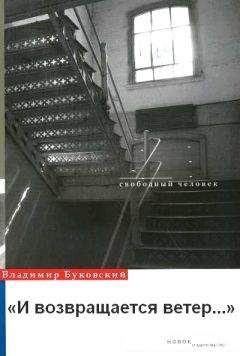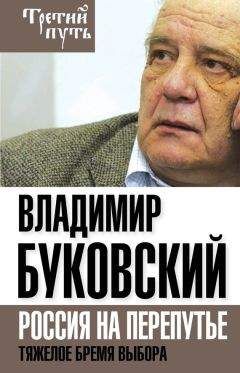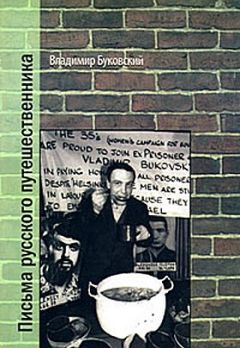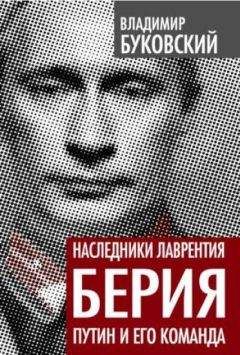Владимир Буковский - И возвращается ветер
В зависимости от этого разные люди, прочитавшие одну и ту же книгу, признавали ее антисоветской или нет, а люди, которым инкриминировались одни и те же действия, - признавали свою вину или не признавали ее.
Суд проходил настолько нагло беззаконно, что вызвал бурю негодования. Наученные нашим процессом, власти не позволяли свидетелям оставаться в зале, выталкивали их силой. Не давали говорить подсудимым, защите не позволяли задавать вопросы. Свидетелей обрывали, как только они начинали давать слишком уж неугодные властям показания. Судья и прокурор старались перещеголять один другого в открытом издевательстве над законом.
Что мы считаем основой - идеологию или право? Вот какой вопрос ставили наши процессы, и от его решения зависела не судьба подсудимых, а вся наша дальнейшая жизнь. Судьба подсудимых была предрешена - идеологическое государство не могло позволить навязать себе правовую точку зрения. И Юре Галанскову, который все пять дней процесса, серый от язвенных болей, перемогая мучения, отбивался от травли суда и прокурора, - предстояло умереть в лагере, не дожив своего семилетнего срока.
Но будущее решали мы сами, и вслед бесчеловечному приговору поднималась невиданная до тех пор волна протестов.
"Мы обращаемся к мировой общественности и в первую очередь - к советской. Мы обращаемся ко всем, в ком жива совесть и достаточно смелости.
Требуйте публичного осуждения этого позорного процесса и наказания виновных.
Требуйте освобождения подсудимых из-под стражи. Требуйте повторного разбирательства с соблюдением всех правовых норм и в присутствии международных наблюдателей.
Граждане нашей страны! Этот процесс - пятно на чести нашего государства и на совести каждого из нас. Вы сами избрали этот суд и этих судей - требуйте лишения их полномочий, которыми они злоупотребили. Сегодня в опасности не только судьба подсудимых - процесс над ними ничуть не лучше знаменитых процессов тридцатых годов, обернувшихся для нас всех таким позором и такой кровью, что мы от этого до сих пор не можем очнуться", писали в своем обращении к мировой общественности Л. Богораз и П. Литвинов.
Непрерывным потоком шли письма протеста: письмо новосибирцев, письмо украинцев, письмо свидетелей, письма 79-ти, 13-ти, 224-х, 121-го, 25-ти, восьми, 46-ти, 139-ти... Писали целыми семьями, писали в одиночку. Матрос из Одессы, председатель колхоза из Латвии, священник из Пскова, инженер из Москвы... Писатели, ученые, рабочие, студенты со всех концов страны.
Их выгоняли с работы, из институтов, лишали званий, травили в газетах и на собраниях. Кое-кто каялся, другие становились только настойчивей и непримиримей, и число таких все росло. Посмотрите подписи под этими первыми письмами, и вы увидите фамилии людей, в том же году или через несколько лет ставших подсудимыми. Новые аресты, новые суды - новые протесты. Репрессии становились привычным фактом жизни, а суды, повторяя по всей стране наши первые процессы, превратились в ритуал; толпа у входа в суд, которую не пускают на "открытый процесс", - как сказал Илья Габай, "у закрытых дверей открытого суда", стайка иностранных корреспондентов (если в Москве), крикливые газетные статьи, речи адвокатов, последние слова подсудимых и неизменно жестокие приговоры. Затем опять протесты, протесты, протесты... Только Ленинград все еще не мог до конца выйти из подполья: в 65-м году, в разгар дела Синявского и Даниэля, там судили подпольных марксистов ("Колокол"), в 67-68-м, во время московских процессов и демонстраций, подпольных социал-христиан (ВСХСОН).
Удивительно, как много - при первом натиске гласности - в нашем самом безмятежном в мире государстве обнаружилось вдруг проблем: правовых, национальных, социальных, религиозных. Оказалось, что каждый день происходит столько событий - преследований, арестов и расправ, что понадобилось выпускать в самиздате раз в два месяца информационный журнал "Хроника текущих событий". Да и вообще самиздат перестал уже быть делом чисто литературным: открытые письма, статьи, памфлеты, трактаты, исследования, монографии. И, конечно, стенограммы судов. Чем больше свирепела власть, тем больше разрасталось и крепло движение - пойди пойми теперь, кто медведь, а кто колода и что из всего этого выйдет.
До чего обидно было именно теперь, в самую горячую пору, отсиживаться в лагере! Одно только успокаивало меня, что среди прочих документов самиздата распространялась по стране и запись нашего суда, составленная Павлом Литвиновым. Все-таки было за что сидеть три года - не в глухой колодец упало все высказанное.
- Ну, что, землячок, иди, сыграем? Свитерок у тебя хороший...
Помотавшись по этапам да по пересылкам, я уже знал немного уголовный мир, его порядки и обычаи. Играть с ними бессмысленно - карты меченые, а уж трюков всяких они знают бессчетное множество. Есть такие специалисты, что вынут тебе любую карту на заказ с закрытыми глазами. Они живут картами: целый день их крутят в руках, тасуют, перебирают, чтобы не потерять сноровку, и, уж если выберут жертву - разденут донага. Но и отказаться теперь значило бы проявить слабость. Не те будут отношения, а мне с ними жить почти три года.
- Давай, - говорю я, - только в преферанс. Народу достаточно, запишем пульку - на всю ночь хватит. Тут уж он смутился. Преферанс - игра не воровская, Сразу видно, что он никогда в нее не играл. Но и отказаться ему позорно - какой же он вор, если играть отказывается?
- Землячок, ты хоть объясни, что за игра такая, как в нее играть?
Я объяснил. Сели неохотно - куда им деваться? Естественно, через часок ободрал я их как липку. Преферанс - игра сложная, почти шахматы, долго надо учиться, чтобы понять. Пытались они по ходу дела мухлевать - я даже бровью не повел. Мухлюй не мухлюй, а если игру не знаешь - не выиграешь. Тем более в преферанс.
- Ну, вот, - говорю я. - Вещи свои заберите, они мне не нужны. А теперь давайте я вас по-настоящему научу, как играть.
И так увлеклись - всю ночь просидели. Лучшие друзья стали. В старые времена, особенно сразу после войны, уголовники относились к политическим крайне враждебно, грабили их, даже убивали. И в начале 50-х годов нередки были случаи, что политические восставали против власти воров в лагере. Трудно сказать, что изменилось: то ли уголовники, то ли политические, а скорее всего другая атмосфера теперь в стране, - но только вражды этой больше нет. Напротив, к политическим проявляют необычайное уважение, и если сам ведешь себя с ними честно и твердо, арестантской этики не нарушаешь, то всегда и помогут, и выручат.
Но уж зато вопросами замучают! Как-то само собой разумеется: раз политический - значит, "грамотный", должен все знать. И внезапно оказываешься ходячей энциклопедией для всего лагеря. Приходится решать бесконечные споры о том, сколько на свете было генералиссимусов, сколько километров от Тулы до Тамбова и что южнее - Нью-Йорк или Киев? У них почему-то утвердилось мнение, что было всего три генералиссимуса - Суворов, Сталин и Франке. Но слушают внимательно, с почтением и никогда не спорят. Что сказал - закон. Разумеется, все ходили ко мне писать жалобы - я ведь был единственный политический на весь лагерь.
Всегда меня удивляло, как быстро они распознают людей, угадывают их слабости и сразу могут предсказать, кто кем станет в лагере, С одной стороны - фантастическое чутье, хитрость, с другой - поразительная наивность, доверчивость и жестокость, как у детей.
Тем же этапом из Москвы пришел со мной молодой парнишка, лет двадцати двух. Ничем не примечательный парень, но сразу, неизвестно почему, возбудил их неприязнь. Еще на Воронежской пересылке, куда мы с ним вместе попали и где я обыграл в преферанс воров, они каким-то образом проведали, что он прячет сигареты. А с куревом в камере было плохо. Не говоря ни слева, они отобрали у него сигареты и положили на стол для всеобщего пользования. Чуть позже уловил я краем уха из их разговоров, что они собираются его изнасиловать. Пользуясь своим влиянием, я, естественно, отговорил их. Они были очень недовольны моим вмешательством.
- Чего ты за него впрягся? - ворчали они. - Он, козел тухлый, в лагере к куму бегать будет. Видишь, сигареты зажилить хотел.
- Какое это имеет значение? - недоумевал я. - Как какое значение? Вот ты пришел - всю свою хаванину разделил, не прятал ведь?
Действительно, получилось так, что у меня одного оказались продукты мать ухитрилась перед этапом передать мне лишнюю передачу. Неделю, наверно, вся камера жила этими продуктами. Но понять связь между сигаретами и кумом я все равно не мог.
Однако они оказались правы, и парнишка этот очень скоро стал в лагере доносчиком, даже на меня стучал периодически приезжавшему в лагерь оперативнику КГБ, хотя отлично знал, из какой беды я его выручил.
В лагере ничего не скроешь, и скоро об этом знали все. Но никто не упрекнул меня, не сказал: "Вот видишь, мы были правы". Подходили, очень тактично сочувствовали, о прежнем же - ни слова. Да я, если бы и знал о том, что дальше будет, все равно отговорил бы их тогда от расправы. Но их верное чутье поразило меня.