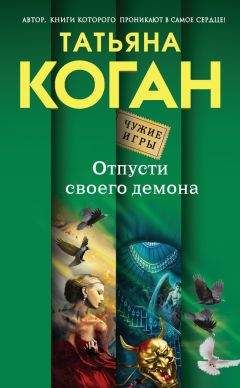Сергей Сергеев-Ценский - Том 2. Произведения 1909-1926
Профессор удивился так искренне, и пятидесятилетние глаза его стали такие детские, потусторонне-глядящие, что Максиму Николаевичу почему-то сделалось стыдно за свой вопрос — суетный и житейский, и весь день потом был он рассеян.
Между домиком Ольги Михайловны и городом раскинулся маленький пригород — несколько домишек, стоящих вразброд. Жили там остатки бывших семей, тающие постепенно. Шла мимо как-то Ольга Михайловна (несла продать ноты, совершенно не зная, кто бы их мог здесь купить) и встретилась с Дарьей, прачкой, вдовою кровельщика Кузьмы, умершего весною от голода. Даже чуть улыбалась Дарья, когда говорила ей:
— И-и, золотая, — хо-ле-ра!.. Испуг что ли тут какой? Подумаешь, радость какая в теперешней жизни!.. У меня вон девчонка, Клунька (всех-то их у меня шесть!), что ни день говорит: — Ах, хоть бы помереть поскореича!.. Чем ни чем заболеть, только бы помереть!.. — Хи-хи!.. Мода какая теперь пошла!.. Конечно, дите!.. Слышит — кругом так-то говорят, — ей и в мысль, что так надо… А живущие такие, — все одно кошки… Утром встанешь, — всех обойдешь, послушаешь, — дышит или уж кончился?.. У меня бы их, кабы раньше не помирали, пятнадцать душ всех-то быть должно!.. Золотая!.. Куды бы их теперь такую ораву?.. С этим беды-горя!.. Прежнее время, конечно, — хорошо жили: муж — кровельщиком, ни одного дня без работы не гулял: постройки везде были… И на водку ему хватало, и детишки сыты-одеты… Так мы, с хороших харчей, дите за дитем и гнали… Каждый год, бывало, то рожаешь, то носишь… Один в пушку, другой — в брюшку… Хи-хи… А зимой этой старик мой говорит: — Ну, ребята, что теперь будем делать? — А Клуня как так и надо: — А теперь, говорит, помирать будем… — И горюшка ей мало!.. И хоть бы тебе какая работа всю зиму!.. А как старику помирать — уж на лавке лежал, — тут тебе и пришли от Аджи-Бекира, кофейщика, — два листа на крыше переменить, да желоба… Поднялся это он, — слава, мол, господи, — взял это ножницы, гайку, пробой в карман (уж лома тащить не мог) — за-шму-ры-гал!.. Ан, пяти дворов не прошел, сел… Шумят нам: — Берите свово старика: кончился!.. — Подошли мы, а Клуня: — Теперь, говорит, наш черед… — И прямо мне дивно было на нее глядеть: дите, а никакой в ней живности нет… И к отцу жалости нет, как так и надо!.. Конечно, все — еда делает… Оно и другие тоже — прежде, бывало, крику-шуму от них, — хоть со двора тикай: ведь шестеро!.. А теперь, золотая, до того тихие, до того тихие, — только глазами смотрят… Американский корм, он какой?.. Много с него накричишь?..
И так долго… И баба еще нестарая, — лет сорока, и непонятно было Ольге Михайловне, — в шутку это она или серьезно, — приземистая, похожая на киргизку, с ноздреватым, луковкой, носом.
А через дом от Дарьи, в немудреной лачуге в два окна, ютился остаток другой семьи — двое ребят, Колька и Павлушка. Колька — старший, лет шестнадцати, но полоумный, — голова толкачом, — и почти слепой, а Павлушка года на два моложе, — лупоглазый, длинноухий и тощий, как весенний заяц. Павлушка кормил Кольку — приносил ему из столовой обед. Но однажды не утерпел и съел половину сам. Потом стал делать это ежедневно. Колька ослабел и слег…
Иногда Мушка не одна пасла Женьку и Толку по балкам, поросшим дубняком, карагачем и дикими грушами, иногда к ней прибивались маленькие пастухи и пастушки, то с козой, то с парой барашков, то с телкой, почти чудом уцелевшими от голода, и однажды узнала от них Мушка, как умер Колька.
— Мама, ты знаешь, — говорила она потом дома, — Павлушка запер Кольку на замок и ставни закрыл и два дня домой не приходил, а его обед съедал весь… А на третий день подошел к окну, посмотрел сквозь ставень, — Колька на полу лежит, ногтями пол скребет, а глаза закрыты… И стонет… Он испугался, да бежать… И еще день не приходил… Только на пятый день утром пришел, дверь отпер: — Колька, — говорит, — ты жив? — А он, конечно, уж мертвый… Он сейчас же в Горхоз: — Велите подводу прислать, мертвого забрать… Брат у меня был, — мой век заедал, — теперь, слава богу, помер!.. Вот какой, мама, а?!
И Мушка смотрела на мать испуганными глазами.
— Когда мы уедем за границу… — начала было Ольга Михайловна, но Мушка перебила досадно:
— Никогда не уедем!.. И я терпеть не могу, когда о чем-то мечтают без толку!.. И ты, и Максим Николаич такой же… А еще называются взрослые!..
— Что это за тон? У кого это ты учишься?.. Да если мы не уедем, мы тут погибнем!
— Конечно, погибнем, — спокойно сказала Мушка.
— Вот потому-то мы и должны уехать!
— Ехать нам не на что, — ты это сама говорила… Лучше пойдем пешком… Будем идти и петь хором:
Во Францию два гренадера
Из русского плена брели…
И лицо Мушки стало до того вызывающе, что испугало Ольгу Михайловну.
6Утро 25 июля было душное так же, как и несколько предыдущих утр, море так же пустынно; у гор, направо от дачки Ольги Михайловны был такой же неживой, засушенный вид, какой принимали они всегда в июле; совершенно неподвижно сидящие кусты дубняка по скатам были точно вырезаны из окрашенного картона и точь-в-точь такие же, как накануне; и точно так же розовы и сини были шиферные откосы балок… так решил бы невнимательно скользнувший по всему кругом скучающий взгляд. Но неисчислимо много нового вошло кругом в это утро для глаза, умеющего смотреть и видеть.
В это утро Мушка в первый раз отчетливо увидела, какая страшная вещь небо — обыкновенное небо, июльское, чистое, без единого облачка. Она выгнала Женьку пастись, а сама присела на откосе балки и, задрав голову и открыв рот, уперлась в небо глазами. Смотрела с минуту, и то, что увидела, ее испугало. Небо роилось… Небо было все как бы живое, — бесспорно живое, — и роилось: от неба, как пух с одуванчика, отлетало новое, верхнее небо и кружилось темными точками, а от этого второго — новое, и еще, и еще… и трудно было следить глазами за тем, что вчера еще было только воздухом, голубым, потому что преломлялись в нем как-то солнечные лучи… И когда потом, удивленная, глянула на море Мушка, она и здесь увидела то, чего никогда не видела раньше: она ясно заметила неровную, щербатую линию горизонта, потому что там изгибались, всплескивали и падали такие же самые волны, как и здесь, вблизи: совсем не было перспективы.
А горы струились… Было явственное шевеление и голых сине-розовых камней на верхушках, и кустов кизиля, карагача и дуба… Было дрожание, дышание, передвижка пятен… Просто как будто во множестве сбегали вниз взболтанно-пыльно-зеленые струйки… Так было только в это утро, — никогда не было раньше.
Это поразило Мушку. Это почти встревожило ее. От этого, нового, стало даже как-то неловко. И когда, бросив Женьку с Толкушкой, вошла она на веранду, где Ольга Михайловна подметала пол, она остановилась прямо против нее и смотрела, чтобы убедиться, что это, лучше, чем чье-либо другое в жизни, знакомое ей лицо теперь будет не такое, как всегда, — другое… И с замиранием сердца увидела, что действительно другое: оно точно светилось изнутри, — такое стало отчетливое…
Она села, скрестив ноги, — локоть левой руки в колено и подбородок в ладонь; и смотрела на это лицо в упор. Мушка была очень похожа на мать, и знала это, и теперь ей как-то неоспоримо показалось, что это она сама, нагнувшись и подвязав голову по-бабьи синим линючим платком, водит по неровному бетонному полу обшарпанным веником, и эта рука, державшая веник, загрубелая уже в работе и с неотмытно-грязными пальцами, — ее собственная рука.
Мать сказала дочери:
— Что же ты сидишь без дела?
Мушка ответила тихо, точно говоря сама с собой:
— А что же мне делать?.. Мне нечего делать.
— Как нечего?.. Поди-ка решай задачу дальше…
— Не хочу, — сама себе ответила Мушка.
— Как это «не хочу»?.. — подняла от полу голову мать.
— Не хочу и все… Была охота!.. Тебе какая польза от того, что ты училась?..
— А вот я возьму лозину, да лозиной!
Почему-то именно так стала говорить в последнее время Ольга Михайловна, и Мушка раньше удивлялась, откуда она это взяла, но теперь она будто говорила сама с собою и не заметила этого. Она спросила:
— Вот умер Колька… и все?
— Что «все»?
— И больше ничего?.. И ему ничего уж больше… Как же это?..
— Что же ему еще?.. Что ты? Бредишь?
— Все-таки что-нибудь нужно бы… И с Павлушки никто не спросит?.. Ведь он все равно, что убил!
— Я тебе сказала: иди, решай задачу!
— Не хочу… Я после… И никому до этого нет дела!.. Вот страшно!
— Он был слепой… и глупый…
— Значит, таких можно убивать? Я, положим, читала в истории, — был такой народ… больных детей бросали со скалы вниз… и разбивали об камни…
— Тут с Павлушки спросить, — с мальчишки несчастного, а папу убили в поезде, — с кого спросить?..
Ольга Михайловна домела пол и выпрямилась и обернулась лицом к Мушке. Лицо это светилось изнутри, и Мушка почувствовала, что ее собственное лицо теперь светится именно так же.