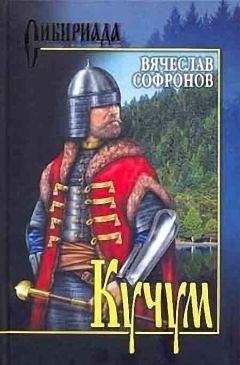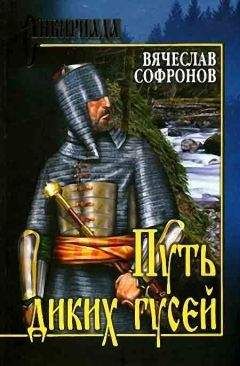Максим Горький - Том 17. Рассказы, очерки, воспоминания 1924-1936
Говорит он всё более невнятно и неохотно; кажется, что он очень недоволен собой за то, что начал рассказывать. Он изображает племянника коротенькими фразами, создавая образ человека заносчивого, беспокойного, властного и неутомимого в достижении своих целей.
— Бегает круглы сутки. Ему всё едино, что — день, что — ночь, бегает и беспокойство выдумывает. Пожарную команду устроил, трубы чистить заставляет, чтоб сажи не было. Мальчишек научил кости собирать, бабам наговаривает разное, а баба, чай, сами знаете, — легковерная. В газету пишет; про учителя написал. Оттуда приехали — сняли учителя, а он у нас девятнадцать лет сидел и во всех делах — свой человек. Советник был, мимо всякого закона тропочку умел найти. На место его прислали какого-то весёленького, так он сразу потребовал земли школе под огород, под сад, опыты, дескать, надобно произвести…
Чувствуется, что, говоря о племяннике, он, в его лице, говорит о многих, приписывает племяннику черты и поступки его товарищей и, незаметно для себя, создаёт тип беспокойного, враждебного человека. Наконец он доходит до того, что говорит о племяннике в женском лице:
— Собрала баб, девок…
— Это вы — о ком?
— Да всё о затеях его. Варвара-то Комарихина до его приезда тихо жила, а теперь тоже воеводит. Загоняет баб в колхозы, ну, а бабы, известно, перемену жизни любят. Заныли, заскулили, дескать, в колхозе — легче…
Он сплюнул, сморщил лицо и замолчал, ковыряя ногтем ржавчину на лезвии топора. Коряги в центре костра сгорели, после них остался грязновато-серый пепел, а вокруг его всё ещё дышат дымом огрызки кривых корней: огонь доедает их нехотя.
— И мы, будучи парнями, буянили на свой пай, — задумчиво говорит старик. — Ну, у нас другой разгон был, другой! Мы не на всё наскакивали. А их число небольшое, даже вовсе малое, однако жизнь они одолевают. Супротив их, племянников-то этих, — мир, ну, а оборониться миру — нечем! И понемножку переваливается деревня на ихнюю сторону. Это — надобно признать.
Встал, взял в руки отрезок горбуши, взвесил его и, снова бросив на песок, сказал:
— Я — понимаю. Всё это, значит, определено… Не увернёшься. Кулаками дураки машут. Вообще мы, старики, можем понять: ежели у нас имущество сокращают и даже вовсе отнимают — стало быть, государство имеет нужду. Государство — человеку защита, зря обижать его не станет.
И, разведя руками, приподняв плечи, он докончил с явным недоумением на щетинистом лице, в холодных глазках:
— А добровольно имущество сдать в колхоз — этого мы не можем понять. Добровольно никто ничего не делает, все люди живут по нужде, так спокон веков было. Добровольно-то и Христос на крест не шёл — ему отцом было приказано.
Он замолчал, а потом, примеривая доску на колья, чихнул и проговорил очень жалобно:
— Дали бы нам дожить, как мы привыкли!
Он идёт прочь от костра, ветер гонит за ним серое облачко пепла. Крякнув, он поднимает с земли доску и бормочет:
— Жить старикам осталось пустяки. Мы, молодые-то, никому не мешали… Да… Живи, как хошь, толстей, как кот…
Чадят головни; синий, кудрявый дымок летит над рекой…
Терремото[33]
Человек, который пережил землетрясение, рассказывает:
— Я шёл по дороге к дому своих друзей, где меня ждал ночлег; дорога не очень круто вползала на каменистые террасы; там прилепился старый город, такой же тёмный, как почва под ним. В нём было много зданий, сложенных из круглых речных камней.
— В начале дороги, под первой же скалой, меня взбросило вверх, а в земле раздался густой, тяжёлый гул; мне показалось, что исчез воздух, нечем дышать, изогнулось небо и вздрогнули звёзды, точно падая. В ту же секунду раздался грохот камней, треск дерева, и я увидел, что весь город оторвался от земли, падает на меня; я был сброшен с дороги, скатился сквозь кустарник, под откос.
— Я рассказываю, конечно, слишком медленно о явлении, которое заняло во времени несколько секунд, но ведь мне казалось, что я переживаю не секунды, даже не часы, а какое-то неисчислимое время. Мне очень хочется говорить кратко и твёрдо, но я не могу.
— Это ощущение потери мною земли сравнить не с чем. В море во время самой сильной бури вы всё-таки чувствуете под собою, вокруг себя нечто твёрдое, и вы не забываете, что море — на земле, а тут — исчезла земля, я чувствовал себя точно взвешенным в воздухе, хотя и лежал на твёрдом. Но оно колебалось подо мною, текло куда-то, шевелилось так же, как шевелился кустарник, хотя ветра не было. Меня раскачивало, подбрасывало, точно желая швырнуть в пространство, — безграничие его я почувствовал впервые, и это заставило меня испытать ужас, тоже несравнимый ни с чем; то, что происходило, не имело подобия себе, и, если я всё-таки сравниваю, это — неизбежная привычка разума. Гул земли не был похож на гром, я могу уподобить его отдалённому рёву многотысячного стада слонов. И ужас мой не имел ничего общего со всей суммой страхов, испытанных мною в океане во время бури в Китайском море, где наш пароход попал в тайфун, в Африке, ночами во время тропического ливня, и на Изонцо под ураганным огнём.
— Во всех этих случаях не исчезало ощущение, что подо мною — земля, но в те десятки секунд я утратил это ощущение. И ужас пред окружающим был молниеносен, — ударив, он исчез. Его заменило другое, незабываемое ощущение, могу назвать его ясностью гибели. Именно так. Не думаю, чтоб это ощущение повторилось даже в последние минуты жизни, если я и буду умирать, не теряя сознания.
— Мне кажется, что в те секунды инстинкт жизни, чувство самосохранения погасло у меня. Я лежал, пытаясь не двигаться, механически сопротивлялся толчкам земли и понимал, что бессмысленно сопротивляться. Я знаю теперь: гениальные художники слова не ошибаются, рассказывая, что в минуту смертельной опасности силы человеческого ума — память и воображение, — напрягаясь до пределов, позволяют человеку пережить все события его жизни.
— Но я ничего не вспоминал, не воображал, я только с мучительной ясностью видел, как серая масса города, разрушаясь, стремительно скатывается, сползает по уступам горы, точно город сметён ветром, которого я не чувствую. Вздымались густейшие облака пыли и тоже ползли вниз, ко мне; из них сыпались, прыгали камни; дома верхних улиц падали вниз кучами мусора; били в стены зданий нижних улиц, давили их, помогая злым судорогам земли сбрасывать город всё ниже; каменный шум разрушения однообразно тяжёл, и сквозь него слышен был пронзительный визг железа, звуки разбиваемых стёкол, треск сухого дерева; из хаоса пыли и движения мелких камней вырывались, выпрыгивали белые фигуры ночных людей, бежали вниз, падали, исчезали, но человеческих воплей я не слышал.
— Где-то близко от меня прогудел сухой, странный звук, точно лопнула бочка, меня снова встряхнуло, подбросило, и снова я видел, как над городом вздрогнуло небо.
— Камни уже катились мимо меня, мне показалось, что два-три перепрыгнули через моё тело. Был момент, когда я уверенно подумал: «Сейчас буду убит!» На меня тяжело сползал, давя кустарник, большой обломок стены, сползал и разбрасывал от себя камни. Но, остановясь выше меня, он послал вниз ко мне несколько обломков величиною с мою голову, один из них метил в лицо моё: я согнулся, сжался и получил удары в плечо, бедро, по ногам.
— Но и это не заставило меня встать, бежать или скатиться ниже; я прижимался к земле всею силой тела, в ясной уверенности, что некуда бежать, земля разрушается. Надо мною летали какие-то птицы, пробежало несколько крыс, собака, проползла змея или уж. И уже прошло несколько белых теней, одни шли молча, другие что-то бормотали, плакали женщины, и кто-то хрипло кричал:
— «Гаэтано, э, Гаэтано!»
— «Кармела!..»
— Становилось тише, но всё ещё падали стены, дробно сыпались мелкие камни; это было похоже на взрывы в каменоломне, не очень сильные взрывы.
— Наконец шум разрушения прекратился совершенно и — «жизнь вступила в свои права», — какая пошлая ирония заключена в этой шаблонной фразе! В пыльном сумраке раздались голоса людей: стоны, плач, крики женщин; блеяли овцы и козы; визжали и лаяли псы, ревел осёл, фыркала лошадь.
— В городе было около четырёх тысяч людей, и по количеству звуков я понял, что осталось их немного. Кое-где вспыхивали спички; три человека недалеко от меня зажгли небольшой костёр; один из них сказал:
— «Будем носить сюда».
— «Надобно воды», — сказал другой.
— Я встал, не очень веря в то, что могу стоять на ногах и что земля снова непоколебима. Затем пошёл вместе с другими помогать раненым. Дом, в котором жили мои друзья и где я прожил четыре дня, исчез, засыпанный огромной плотной грудой камня и мусора; она раздавила его, как орех. Под этим бесформенным холмом, высотою метров в десять, погибло пять человек взрослых, двое детей. Невозможно и бесполезно было пытаться искать их под развалинами двух верхних улиц. Мне сказали, что от всего населения осталось не более двухсот человек.