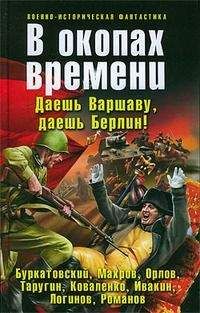Иван Бунин - Том 5. Рассказы 1917-1930
24 февраля.
Все та же прелесть однообразия.
Все последние дни солнце садилось совершенно чисто. Небо перед закатом было неизменно золотое, сияющее; потом оно краснело, вместе с краснеющим солнечным шаром, который, коснувшись горизонта, слегка вытягивался, становился огненно-багряной митрой.
Нынче весь день ходили облака, солнце припекало, как перед грозой, — близится земля, Индия. В пять часов красота этих легчайших, истинно эдемских облаков, раскинувшихся в небосклоне над предзакатным солнцем, была ни с чем не сравнима.
Сейчас уже ночь, девять часов. Был на корме. Там пахнет сеном, стоят в загородке быки. Завтра утром одного из них убьют. Последняя его ночь! Это невозможно, этому не верится, но это так. Впрочем, так ли? Может быть, последняя только на земле? Даже в смерть быка отказывается верить сердце…
А ночь прелестная, с мирной луной и белыми облаками, с редкими и тем более прелестными звездами среди них. Совсем бы одна из наших орловских ночей, если бы не дивная игра Конопуса, этого двойника Сириуса, только ярче отливающего красным блеском. Южный Крест не высоко, склонен вправо. И все заходят облака на востоке, величавыми и грозными горами. Так заходили они весь день, и опять весь день росла качка вместе с ровно растущим муссоном. Теперь валит уже совсем хорошо, хотя все с той же медлительной плавностью и не мешая мирной прелести ночи (той, что над нами, а не на восточном горизонте, где те белые грозные тучи).
С кормы я долго смотрел вправо, на юг. Там, в светлом и совсем пустом небе, под Южным Крестом, все мерцает одинокая низкая звезда. Какая? Надо завтра спросить моряков. Может быть, Альфа Центавра? — Как пленительно, загадочно звучали для меня всю жизнь подобные слова! И вот бог дал мне великое счастье видеть все это…
Последняя ночь быка все-таки не выходит из головы. Он должен умереть, чтобы я мог жить, продолжать видеть прекрасные ночи — и думать о его судьбе, дивиться ей… Всю жизнь суждено мне дивиться чуть не каждую минуту, ничего не понимать и смирять себя: значит, так надо.
25 февраля.
Вчера, потушив огонь, долго лежал, мысленно видя те облачные горы па восточном горизонте. В открытое окно, за тенью от навеса палубы, белела лунная ночь, в открытую дверь доходило сладкое веяние ветра. Думал о тех грезах, которые, по рассказам моряков, начинаются здесь с апреля и бывают так страшны. В полусне стало представляться, что облака эти становятся все величавее, темное, ужаснее и уже блещут зарницами… Потом очнулся и, не зажигая огня, записал:
Океан под ясною луной,
Теплой и высокой, бледнолицей,
Льется гладкой, медленной волной,
Озаряясь жаркою зарницей.
Всходят горы облачных громад:
Гавриил, кадя небесным Силам,
В темном фимиаме царских врат
Блещет огнедышащим кадилом.
Нынче все так же медленно и плавно поднимает, слегка валит на одну сторону, потом на другую, еще медленнее опускает и опять начинает все сначала. И спокойно стоят весь день далекие облака на северо-востоке, над этой таинственной Индией. В пустой столовой жужжит и дует из угла электрический вентилятор. Все читаю, читаю, бросая прочитанное за борт. — Жить бы так без конца!
Я даже к консервированному молоку, которое подают к утреннему кофе, привык; освеженный после жаркой постели душем, надевши все белоснежное, чувствую себя двадцатилетним, сажусь за стол с юношеской жадностью. А в одиннадцать другое острое удовольствие — запахи из кухни, завтрак. Подают вздор — омлет, что-то вроде зеленого луку, какое-то подобие рагу, часто улиток… Но блещут стаканы, рюмки, скатерть, радует здоровый загар и пикейная одежда моряков, красавец лакей, тоже весь в белом, и сонная улыбка очень подвижного, когда надо, но вечно безмолвного кривоногого нашего китайчонка; радует порядок корабельной жизни. А там чай среди дня, а там и обед, завершение правильного трудового дня… За обедом моряки часто что-нибудь рассказывают.
Как это ни странно, капитан рассказывает отлично, лучше всех. И вообще, несмотря на свои многие неприятные черты, — какое, например, презрение ко всему, что не французское! — он мне очень нравится: очень цельный человек. Нравится и то, что сидит он во главе стола, как высший между нами, с сознанием, что он высший, имеющий над нами неограниченную власть. Да, конечно, неограниченную, — разве может быть иначе в море, на корабле? В море, в пустыне, непрестанно чуя над собой высшие Силы и Власти и всю ту строгую иерархию, которая царит в мире, особенно ощущаешь, какое высокое чувство заключается в подчинении, в возведении в некий сан себе подобного (то есть самого же себя).
Нынче весь день летели летучие рыбки. Мы идем, а они, как молодые воробьи, поднимаются целыми стаями, несутся плоско, прямо и опять сыплются в воду, разбрасывая брызги вокруг себя, и опять врываются целым ливнем и опять летят…
Ночь похожа на вчерашнюю.
Та звезда, что по ночам переливается кровью на горизонте перед нами, мигает, цветет и как будто манит, завлекает все дальше в глубь своей таинственной тропической страны, есть Спика.
Быка уже нет на свете. Все тот же плеск, шум воды за кормой, все тот же мирный запах сена и все та же сладость ночного ветра, а его уже нет. Непостижимо!
В каюте все жарче. Сплю совсем Адамом. Качает и качает то утлое, что хранит и несет нас среди этих бесконечных хлябей, веет во все окна и двери нежный воздух, жужжит из угла вентилятор… Иногда представляю себе самого себя, спящего, — беспомощно, без мысли и сознания лежащего в этой каюте, затерянного в океане. Как страшно и как хорошо! Я сплю, мы все спим, кроме тех двух-трех бессонных, безмолвных, недвижных, что бдят за нас там, наверху, на вахте, мы спим, а ночь, вечная, неизменная, — все такая же, как и тысячелетия тому назад! — ночь, несказанно-прекрасная и неизвестно зачем сущая, сияет над океаном и ведет свои светила, играющие самоцветными огнями, а ветер, истинно божие дыхание всего этого прелестного и непостижимого мира, веет во все наши окна и двери, во все наши души, так доверчиво открытые ей, этой ночи, и всей той неземной чистоте, которой полно это веяние.
26 февраля.
Спал в каюте на верхней палубе, думал, что в ней, более доступной ветру, все-таки не такое знойное тепло, не такая горячая духота, как в нижней. Но нет, там еще жарче, за день она, вся открытая солнцу, накаляется, как духовая печь.
Проснулся, по обыкновению, в шесть, — зашуршали швабры, зашумела вода из шлангов, — и тотчас же вскочил. Спать в этих солнечных странах можно очень мало, и сон, чуть откроешь глаза, отлетает мгновенно. Всегда есть надежда на что-то новое, счастливое в начинающейся утренней жизни, тут же, среди этого вечно юного божьего лона, в первозданности океана особенно. Отдернул дверную занавеску, — уже всходит жаркое солнце, сладок шум воды, дающий обманчивое чувство прохлады, приятен вид молодых и здоровых людей за работой, их босых ног, крепких икр и до пояса обнаженных бурых тел. Еще раз здравствуй, утро! Еще раз выкатилось могучее тропическое светило, как выкатывалось оно в эту минуту уже сотни тысяч лет и снова будет выкатываться миллионы, когда от меня не останется даже пылинки.
За день муссон ослабел. Но качает еще шире и глубже, — как на качелях весь день качаешься.
Дочитал «На воде». — «J'ai vu de l'eau, du soleil, des nuages, je ne puis raconter autre chose…»[29] Дочитав, бросил книгу за борт. Поднялся на верхнюю палубу, потом еще выше, на крышу капитанской рубки, стоял и качался вместе со всем пароходом, который был весь подо мною и весь виден, от бугшприта до кормы, со всеми своими мачтами, снастями и тяжелой черной трубой, ее круглотой и тяжестью, ее чуть дымящей пастью. Все это поднималось, опускалось, косо валилось то туда, то сюда… Куда забросило меня! Я под экватором!
Сейчас пять. Океан все штилеет и принимает нежно-синий тон, — та зыбь, что качает нас, мертвая. И уже есть кое-где вдали поля светло-стальной глади.
Ночью.
Солнце нынче опускалось в слепящее золото. Океан все штилел. Всюду вокруг нас, по матово-стальным медленно перекатывающимся волнам, тоже текло, переливалось, блистало золото.
Мы поднялись с верхней палубы еще выше, на мостик. Океан за это мгновение стал уже весь млечно-стальной с голубым налетом, и по этой безграничной млечности пошли от заката (ставшего менее слепящим, оранжево-золотым) оранжевые глянцы, меж тем как небо на востоке стало гелиотроповым, а вдоль бортов медленно изгибалась, как лилово-синие удавы, мертвая волна.
Мы поспешили на самую высшую точку, на капитанскую рубку: солнце успело уже скрыться, восточное небо стало фиолетовым, а западное позеленело и пошло по зеленому огненно-оранжевыми полосами, над нами же, в бездонной глубине, тени облаков, легчайшие, как дамасский газ, окрасились в нежно-малиновый цвет.