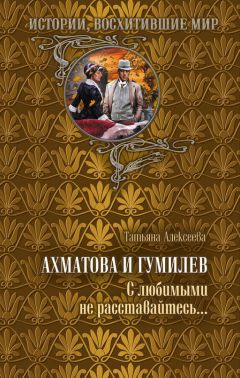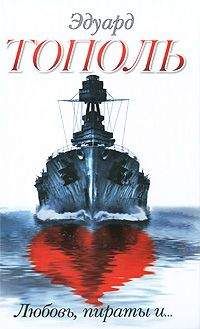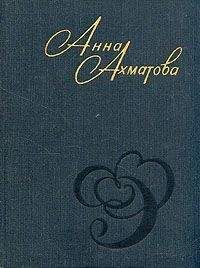Анна Ахматова - От царскосельских лип: Поэзия и проза
5 января 1941
Фонтанный Дом
в Ташкенте и после
Часть третьяЭПИЛОГБыть пусту месту сему…
Евдокия ЛопухинаДа пустыни немых площадей,
Где казнили людей до рассвета.
АнненскийЛюблю тебя, Петра творенье!
ПушкинМоему городу
Белая ночь 24 июня 1942 г. Город в развалинах. От Гавани до Смольного все как на ладони. Кое-где догорают застарелые пожары. В Шереметевском саду цветут липы и поет соловей. Одно окно третьего этажа (перед которым увечный клен) выбито, и за ним зияет черная пустота. В стороне Кронштадта ухают тяжелые орудия. Но в общем тихо. Голос автора, находящегося за семь тысяч километров, произносит:
Так под кровлей Фонтанного Дома,
Где вечерняя бродит истома
С фонарем и связкой ключей, —
Я аукалась с дальним эхом,
Неуместным смущая смехом
Непробудную сонь вещей,
Где, свидетель всего на свете,
На закате и на рассвете
Смотрит в комнату старый клен
И, предвидя нашу разлуку,
Мне иссохшую черную руку,
Как за помощью тянет он.
Но земля под ногой гудела,
И такая звезда[94] глядела
В мой еще не брошенный дом
И ждала условного звука…
Это где-то там – у Тобрука,
Это где-то здесь – за углом.
Ты не первый и не последний
Темный слушатель светлых бредней,
Мне какую готовишь месть?
Ты не выпьешь, только пригубишь
Эту горечь из самой глуби —
Этой нашей разлуки весть.
Не клади мне руку на темя —
Пусть навек остановится время
На тобою данных часах.
Нас несчастие не минует,
И кукушка не закукует
В опаленных наших лесах…
А за проволокой колючей,
В самом сердце тайги дремучей —
Я не знаю, который год, —
Ставший горстью лагерной пыли,
Ставший сказкой из страшной были,
Мой двойник на допрос идет.
А потом он идет с допроса,
Двум посланцам Девки безносой
Суждено охранять его.
И я слышу даже отсюда —
Неужели это не чудо! —
Звуки голоса своего:
За тебя я заплатила
Чистоганом,
Ровно десять лет ходила
Под наганом,
Ни налево, ни направо
Не глядела,
А за мной худая слава
Шелестела.
А не ставший моей могилой,
Ты, крамольный, опальный, милый,
Побледнел, помертвел, затих.
Разлучение наше мнимо:
Я с тобою неразлучима,
Тень моя на стенах твоих,
Отраженье мое в каналах,
Звук шагов в Эрмитажных залах,
Где со мною мой друг бродил,
И на старом Волковом Поле[95],
Где могу я рыдать на воле
Над безмолвием братских могил.
Все, что сказано в Первой части
О любви, измене и страсти
Сбросил с крыльев свободный стих,
И стоит мой Город «зашитый»…
Тяжелы надгробные плиты
На бессонных очах твоих.
Мне казалось, за мной ты гнался,
Ты, что там погибать остался
В блеске шпилей, в отблеске вод.
Не дождался желанных вестниц…
Над тобой – лишь твоих прелестниц,
Белых ноченек хоровод.
А веселое слово – дома —
Никому теперь незнакомо,
Все в чужое глядят окно.
Кто в Ташкенте, а кто в Нью-Йорке,
И изгнания воздух горький —
Как отравленное вино.
Все вы мной любоваться могли бы,
Когда в брюхе летучей рыбы
Я от злой погони спаслась
И над полным врагами лесом,
Словно та, одержимая бесом,
Как на Брокен ночной неслась…
И уже предо мною прямо
Леденела и стыла Кама,
И «Quo vadis?»[96] кто-то сказал,
Но не дал шевельнуть устами,
Как тоннелями и мостами
Загремел сумасшедший Урал.
И открылась мне та дорога,
По которой ушло так много,
По которой сына везли,
И был долог путь погребальный
Средь торжественной и хрустальной
Тишины Сибирской Земли.
От того, что сделалось прахом,
Обуянная смертным страхом
И отмщения зная срок,
Опустивши глаза сухие
И ломая руки, Россия
Предо мною шла на восток[97].
ПРОЗА
24 декабря 1959 (европейский Сочельник)
Попытки писать воспоминания вызывают неожиданно глубокие пласты прошлого, память обостряется почти болезненно: голоса, звуки, запахи, люди, медный крест на сосне в Павловском парке и т. п., без конца.
Анна Ахматова.
Из «Записных книжек»
Михаил Лозинский.
Лозинский (Воспоминания)
Завтра день молитвы и печали
Меня познакомила с ним Лиза Кузьмина-Караваева в 1911 на втором собрании Цеха поэтов [98] (у нее) на Манежной площади. Это была великолепная квартира Лизиной матери (Пиленко), рожденной чуть ли не Нарышкиной. Сама Лиза жила с Митей Кузьминым-Караваевым по-студенчески. Внешне Михаил Леонидович был тогда элегантным петербуржцем и восхитительным остряком, но стихи были строгие, всегда высокие, свидетельствующие о напряженной духовной жизни [99]. Я считаю, что лучшее из написанных тогда мне стихов принадлежит ему («Не забывшая»).
Дружба наша началась как-то сразу и продолжалась до его смерти (31 января 1955 г.). Тогда же, т. е. в 10-х годах, составился некий триумвират: Лозинский, Гумилев и Шилейко. С Лизой Гумилев играл в карты, они были на «ты» и называли друг друга по имени-отчеству. Целовались, здороваясь и прощаясь. Пили вместе так называемый «флогистон» (дешевое разливное вино). Оба, Лозинский и Гумилев, свято верили в гениальность третьего (Шилея) и, что уже совсем непростительно, – в его святость. Это они (да простит им Господь) внушили мне, что равного ему нет на свете. Но это уже другая тема.
Лозинский кончил два факультета СПБ университета (юридический для отца и филологический для себя) и был образованнее всех в Цехе. (О шилейкинском чаромутии не берусь судить). Это он при мне сказал Осипу, чтобы тот исправил стих «И отравительница Федра», потому что Федра никого не отравляла, а просто была влюблена в своего пасынка. Гуму он тоже не раз поправлял мифологические и прочие оплошности [100].
Шилейко толковал ему Библию и Талмуд. Но главное, конечно, были стихи.
Гумилев присоветовал Маковскому пригласить Лозинского в секретари в «Аполлон». Лучшего подарка он не мог ему сделать. Бездельник и болтун Маковский (Papa Maco, или «Моль в перчатках») был за своим секретарем, как за каменной стеной. Лозинский прекрасно знал языки и был до преступности добросовестным человеком. Скоро он начал переводить, счастливо угадав, к чему «ведом» [101]. Ha этом пути он достиг великой славы и оставил образцы непревзойденного совершенства. Но все это гораздо позже. Тогда же он ездил с Татьяной Борисовной в оперу, постоянно бывал в «Бродячей Собаке» и возился с аполлоновскими делами. Это не помешало ему стать редактором нашего «Гиперборея» [102] (ныне библиографическая редкость) и держать корректуры моих книг. Он делал это безукоризненно, как все, что он делал [103]. Я капризничала, а он ласково говорил: «Она занималась со своим секретарем и была не в духе». Это на «Тучке», когда мы смотрели «Четки» [104], и через много, много лет («Из шести книг», 1940): «Конечно, раз Вы так сказали, так и будут говорить, но может быть лучше не портить русский язык?» И я исправляла ошибку. Последняя его помощь мне: чтение рукописи «Марьон Делорм». Смотрел он и мои «Письма Рубенса», для чего заходил в Фонтанный Дом после работы в Публичной библиотеке.
Во время голода М. Л. и его жена еле на ногах держались, а их дети были толстые, розовые с опытной и тоже толстой няней. М. Л. был весь в фурункулах от недоедания…
* * *В 30-х годах – тяжелые осложнения в личной жизни: он полюбил молодую девушку. Она была переводчицей [105] и его ученицей. Никаких подробностей я не знаю, и, если бы знала, не стала бы, разумеется, их сообщать, но на каком-то вечере во «Всемирной литературе» (Моховая, 36) она потребовала, чтобы он на ней женился, оставив семью. Все кончилось тем, что М. Л. оказался в больнице [106]. Она вышла замуж, но скоро умерла. Когда она умирала, он ходил в больницу – дежурил всю ночь.
* * *Хворал он долго и страшно. В 30-х годах его постигло страшное бедствие: разрастание гипофиза, исказившее его. У него так болела голова, что он до 6-ти часов не показывался даже близким. Когда наконец справились с этим и с горловой чахоткой, пришла астма и убила его.
В прошлогодней телевизионной передаче (которую все же имеет смысл найти) я вспомнила много мелочей о Лозинском, кот. не следует забывать (о методе перевода «Divina Comedia» и др.).
В моей книге должна быть глава о моем дорогом незабвенном друге, образце мужества и благородства. (Это развить).
* * *Последней его радостью были театральные постановки его переводов. Он пригласил меня на «Валенсианскую вдову». В середине действия я шепнула ему: «Боже мой, Михаил Леонидович, – ни одной банальной рифмы. Это так странно слышать со сцены». – «Кажется, да», – ответил этот чудодей.