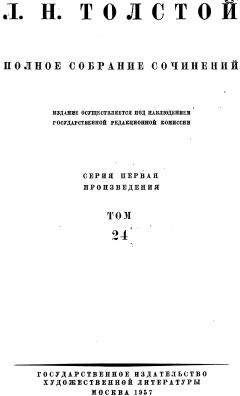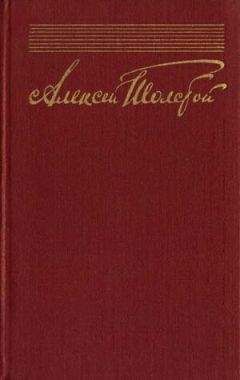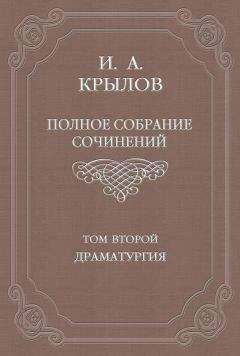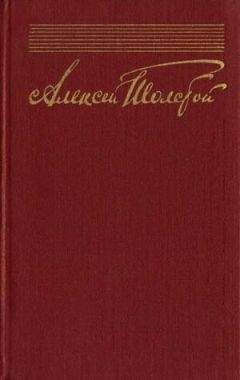Всеволод Крестовский - Тьма Египетская
Тамара отвечала, что примет с покорностью и благодарностью все, что угодно будет делать для нее Серафима, так как уверена, что это может быть ей только к добру. Она еще раз просила игуменью верить, что решение ее принять христианство есть результат не легкомысленного увлечения, а очень сложного душевного процесса, очень трудной и мучительной работы над собой, что оно в ней совершенно добровольно и твердо, как вполне сознательное, продуманное решение; а потому она еще и еще раз повторяет, что в еврейство никогда и ни при каких обстоятельствах более не возвратится.
Тогда Серафима прочитала ей свою телеграмму, — и обрадованная Тамара со слезами на глазах бросилась благодарить ее, целовала ей руки и просила ускорить отправление депеши. Письмо Каржоля, незадолго до сего переданное ей по секрету келейницеи Натальей, она успела не только хорошо прочитать, но и хорошо запрятать его у себя на груди, еще ранее призыва своего к игуменье. Теперь она еще более верила в этого человека и была убеждена, что как только он узнает о ее отъезде в Петербург, — если этому суждено случиться, — то и сам не замедлит приехать туда же, чтобы вести ее от купели к венцу. О, там они наконец будут невозмутимо счастливы!.. Новая, глубоко искренняя вера во Христа, светлая первая любовь, новая радостная жизнь, новое общество, новый мир и новый житейский разумный труд доброй жены, а со временем, даст Бог, и матери, — вот та заманчивая заря тихого, честного семейного счастья, которая, казалось ей, начинает уже для нее заниматься… А там, узнав о ее счастии, о маленьких правнуках, даст Бог, и дедушка с бабушкой когда-нибудь примирятся с ней, простят ей, — ведь есть же у них сердце, ведь они же так ее любят!..
Спустя около получаса после того, как растроганная Серафима, поцеловав и успокоительно обласкав Тамару, с миром отпустила ее от себя, Украинская телеграфная станция уже передавала по назначению длинную и подробную телеграмму игуменьи.
XXIII. ОТЪЕЗД КАРЖОЛЯ
В этот же день, вечером, спешно уложив свои чемоданы и рассчитавшись, при помощи Блудштейна, с домашней прислугой, граф Каржоль, со своим датским догом, в последний раз уселся в свою «собственную» карету, на козлах которой, рядом с кучером, поместился его излюбленный камердинер, и отправился на железную дорогу, под конвоем все тех же двух своих «мучителей», Блудштейна и Брилльянта, которые следовали сзади него на извозчике.
На вокзале милейший и обязательнейший Абрам Иоселиович сам взял в кассе билеты прямого сообщения до Москвы — один первоклассный, для графа, другой — собачий, для его дога, и два третьего класса, для камердинера и еще для одного «человечка», — но этот последний уже, так сказать, «по секрету», как для графа, так и для слуги; затем сам сдал в багаж графские чемоданы, сам занял для его сиятельства удобное место в отдельном купе, сам расплатился с носильщиками и даже сам приглядел, как рабочие, при содействии графского камердинера, усаживали и подпихивали датского дога, не желавшего лезть в собачью конуру, за решетку.
А рабби Ионафан, между тем, издали следил за самим Каржолем, который равнодушно, с фланирующим видом человека, приехавшего от нечего делать развлечься на вокзал, прогуливался по платформе. Пять тысяч рублей, приобретенные ценой подписи пятидесятитысячного векселя, лежали теперь в его бумажнике, и это обстоятельство значительно способствовало внутреннему успокоению графа. Он был уверен, что и с такими маленькими деньгами не только не пропадет, но в конце концов даже восторжествует над всем Украинским кагалом. Хотя в душе и было ему очень досадно и больно, что дело, начатое им столь ловким и блестящим образом, затягивается на неопределенное время, благодаря такой неожиданной случайности, как эта скупка векселей, но нечего делать, приходится пока уступить. Он уступает, но в душе далеко не отказывается от своего стратегического плана. Уступка его лишь временная, — в этом он сам твердо уверен, или, по крайней мере, ему так кажется, будто это и в самом деле уверенность. Принимая на себя равнодушно-спокойный вид, граф сознавал, что иначе ему нельзя, что надо казаться спокойным, как бы на высоте своего всегдашнего положения, «faire bonne mine a mauvais jeu», для поддержания собственного «престижа», тем более, что на вокзале встретилось ему двое-трое знакомых, один из которых даже спросил его, не едет ли он куда-нибудь, и куда именно? Граф отвечал, что получил сегодня телеграмму, вследствие которой ему необходимо экстренно съездить в Москву, по одному важному делу, но что едет он совсем налегке, так как рассчитывает через несколько дней вернуться. Сказано все это было таким естественным тоном, что для знакомых не осталось никаких причин усомниться в истине слов Каржоля.
Между тем, рядом с наблюдавшим за ним Брилльянтом, стоял родной племянник Блудштейна, молодой еврейчик в «цивильном», т. е. общеевропейском костюме, с дорожной сумкой через плечо, и этому еврейчику, не спуская глаз с Каржоля, ламдан наскоро, но внушительно передавал на еврейском жаргоне некоторые инструкции и наставления. Еврейчик, отъезжавший как бы по собственным делам, должен был отконвоировать Каржоля до самой Москвы, не подавая ему, однако, и тени подозрения, что он за ним наблюдает, но в то же время зорко следя на каждой станции, чтобы граф не вздумал дать стрекача куда-нибудь в сторону, в пределах края. В этом случае соглядатай должен следовать за ним и тотчас же известить о сем Блудштейна по телеграфу. Для наиболее удобного, так сказать, ежеминутного наблюдения, надо непременно сесть в один вагон с графским человеком, и как можно ближе к сему последнему, вступить с ним в случайный разговор и постараться выведать, что можно, о планах и намерениях его барина. В Москве еврейчик точно так же должен не упускать Каржоля из виду, остановиться, по возможности, в одной с ним гостинице, в наиболее дешевом, конечно, номере, и вообще тайно следить за ним повсюду, пока наконец граф не осядется вполне в каком-либо определенном пункте, где можно будет устроить дальнейшее негласное наблюдение за ним посредством кого-нибудь из тамошних местных евреев. Только в этом случае еврейчик будет вправе считать свою миссию оконченной. Паспорт соглядатая давал ему право на пребывание вне черты еврейской оседлости, — стало быть, с этой стороны, насчет полицейских придирок, он мог быть вполне спокоен, а деньги на путевые и прочие расходы были в достаточном количестве вручены ему на вокзале дядюшкой Блудштенном, за счет Бендавида. Таким образом, предупреждение, сделанное сегодня Каржолю «милейшим» Абрамом Иоселиовичем, о том, что где бы он ни был, еврейский глаз всегда будет следить за ним, — очевидно, не было одной лишь фразой, угрожающей впустую. Еврейская «полиция вне полиции» и в этом случае, как всегда, оставалась на высоте своего особого назначения в Израиле.
По второму звонку граф спокойно вошел, в сопровождении того же Абрама Иоселиовича, в занятое им купе, где Абрам Иоселиович передал ему с рук на руки билет с квитанцией от багажа, а так как это случилось в присутствии одного из знакомых графа, тоже отъезжавшего куда-то поблизости, то даже простился с его сиятельством самым любезнейшим образом, пожелав ему всякого благополучия «ув его путю». Глядя на это, посторонние люди могли бы подумать себе, что, без сомнения, у Каржоля с Блудштейном какие-нибудь дела, и что Блудштейн состоит у него даже на маленьких дружеских послугах, как у такого гросс-пурица[190].
В то же самое время, еврейчик-соглядатай, вслед за графским камердинером, юркнул в соседний вагон третьего класса, — и по последнему звонку поезд медленно тронулся с места. Абрам Иоселиович стоял на платформе и, приподняв свой «петерзбургский цилиндер», как самый цивилизованный еврей, «деликатно» посылал Каржолю приятные улыбки и прощальные поклоны, тогда как остававшийся поодаль Ионафан-ламдан выразительно грозил пальцем высунувшемуся в окошко еврейчику, — дескать, смотри же ты мне, гляди в оба!
С вокзала оба они полетели к Бендавиду сообщить радостную весть, что шейгец Каржоль уже благополучно сплавлен из Украинска под надежным надзором, и Абрам Иоселиович передал при этом старику последний пятидесятитысячный вексель графа, сделав на нем передаточную надпись.
XXIV. ПЕРЕД ГРОЗОЙ
В тот же вечер, по заходе шабаша, то есть с закатом солнца, когда обыкновенно весь Украинский Израиль высыпает «на шпацер», наполняя бульвар и улицы еврейских кварталов пестрыми, по-праздничному разряженными группами евреек и евреев, сочады и домочадцы, — между всеми этими «шпацирующими» группами только и разговора было, что о побеге Тамары. Вся история, при передаче ее из уст в уста, со множеством пояснении, догадок и дополнений, принимала, конечно, самые чудовищные, даже фантастические размеры. Израиль, видимо, волновался, и особенно женская его половина. Для одних все это дело представляло интерес величайшего скандала, для других давало приятный повод позлорадствовать над Тамарой и семейством Украинского гвира, но злорадствовать, разумеется, не иначе как со вздохами фарисейского сокрушения и сожаления о случившемся, как того требует еврейское приличие. Большинство же усматривало в приключении Тамары величайшее оскорбление всему Израилю. Одни утверждали, что это кара за грехи, за то, что евреи, забыв отеческие заветы, стали воспитывать своих детей не по-еврейски, отдавать их, вместо хедеров и эшеботов, в гимназии и на разные «курсы-фурсы»; другие же озлобленно взвинчивали себя по этому поводу на самый фанатический лад против гойев.