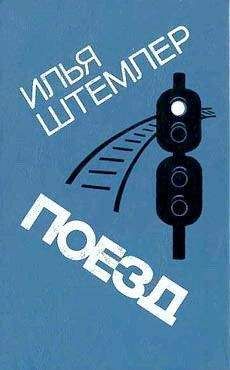Александр Солженицын - Архипелаг ГУЛАГ. Книга 2
Расскажите нам такую сценку с прокурором царского времени в концлагере 1918 года – никто не шевельнётся его пожалеть: признано единодушно, что то были не люди (они и сроки требовали своим подсудимым год, три, пять). А своего, советского, пролетарского прокурора, хоть и в бостоновом костюме, – как не пожалеть. (Он и требовал – червонец да вышку.)
Сказать, что им было больно, – это почти ничего не сказать. Им – невместимо было испытать такой удар, такое крушение – и от своих, от родной партии, и по видимости – ни за что. Ведь перед партией они ни в чём не были виноваты, перед партией – ни в чём.
Настолько это было болезненно для них, что среди них считалось запретным, нетоварищеским задать вопрос: «за что тебя посадили?» Единственное такое щепетильное арестантское поколение! – мы-то, в 1945, язык вываля, как анекдот, первому встречному и на всю камеру рассказывали о своих посадках.
Это вот какие были люди. У Ольги Слиозберг уже арестовали мужа и пришли делать обыск и брать её самою. Четыре часа шёл обыск – и эти четыре часа она приводила в порядок протоколы съезда стахановцев щетинно-щёточной промышленности, где она была секретарём за день до того. Неготовность протоколов больше безпокоила её, чем оставляемые навсегда дети! Даже следователь, руководивший обыском, не выдержал и посоветовал ей: «Да проститесь вы с детьми!»
Это вот какие были люди. К Елизавете Цветковой в казанскую отсидочную тюрьму в 1938 пришло письмо пятнадцатилетней дочери: «Мама! Скажи, напиши – виновата ты или нет?.. Я лучше хочу, чтоб ты была не виновата, и я тогда в комсомол не вступлю и за тебя не прощу. А если ты виновата – я тебе больше писать не буду и буду тебя ненавидеть». И угрызается мать в сырой гробовидной камере с подслеповатой лампочкой: как же дочери жить без комсомола? как же ей ненавидеть советскую власть? Уж лучше пусть ненавидит меня. И пишет: «Я виновата… Вступай в комсомол».
Ещё бы не тяжко! да непереносимо человеческому сердцу: попав под родной топор – оправдывать его разумность.
Но столько платит человек за то, что душу, вложенную Богом, вверяет человеческой догме.
Любой ортодокс и сейчас подтвердит, что правильно поступила Цветкова. Их и сегодня не убедить, что вот это и есть «совращение малых сих», что мать совратила дочь и повредила её душу.
Это вот какие были люди: Е. Т. давала искренние показания на мужа – лишь бы помочь партии!
О, как можно было бы их пожалеть, если бы хоть сейчас они поняли свою тогдашнюю жалкость!
Всю главу эту можно было бы писать иначе, если бы хоть сегодня они расстались со своими тогдашними взглядами! Но сбылось по мечте Марии Даниелян: «Если когда-нибудь выйду отсюда – буду жить, как будто ничего не произошло».
Верность? А по-нашему: хоть кол на голове теши. Эти адепты теории развития увидели верность свою развитию в отказе от всякого собственного развития. Как говорит Николай Адамович Виленчик, просидевший 17 лет: «Мы верили партии – и мы не ошиблись!» Верность – или кол теши?
Нет, не для показа, не из лицемерия спорили они в камерах, защищая все действия власти. Идеологические споры были нужны им, чтоб удержаться в сознании правоты – иначе ведь и до сумасшествия недалеко.
Как можно было бы им всем посочувствовать! Но так хорошо все видят они, в чём пострадали, – не видят, в чём виноваты.
* * *Этих людей не брали до 1937 года. И после 1938 их очень мало брали. Поэтому их называют «набор 37-го года», и так можно было бы, но чтоб это не затемняло общую картину, что даже в месяцы-пик сажали не их одних, а всё те же тянулись и мужички, и рабочие, и молодёжь, инженеры и техники, агрономы, и экономисты, и просто верующие.
«Набор 37-го года», очень говорливый, имеющий доступ к печати и радио, создал «легенду 37-го года», легенду из двух пунктов:
1) если когда при советской власти сажали, то только в 37-м, и только о 37-м надо говорить и возмущаться;
2) сажали в 37-м – только их.
Так и пишут: страшный год, когда сажали преданнейшие коммунистические кадры: секретарей ЦК союзных республик, секретарей обкомов, председателей облисполкомов, всех командующих военными округами, корпусами и дивизиями, маршалов и генералов, областных прокуроров, секретарей райкомов, председателей райисполкомов…
В начале нашей книги мы уже дали объём потоков, лившихся на Архипелаг два десятилетия до 37-го года. Как долго это тянулось! И сколько это было миллионов! Но ни ухом ни рылом не вёл будущий набор 37-го года, они находили всё это нормальным. В каких выражениях они обсуждали это друг с другом, мы не знаем, а П. П. Постышев (эмиссар Сталина при Украинском ЦК), не ведая, что и сам обречён на то же, выражался так:
в 1931 на совещании работников юстиции: «…сохраняя во всей суровости и жестокости нашу карательную политику в отношении классового врага и деклассированных выходцев» (эти выходцы деклассированные чего стоят! кого нельзя загнать под «деклассированного выходца»?);
в 1932: «Понятно, что… проведя их через горнило раскулачивания… мы ни в коем случае не должны забывать, что этот вчерашний кулак морально не разоружился…»;
и ещё как то: «Ни в коем случае не притуплять остриё карательной политики!»
А остриё-то какое острое, Павел Петрович! А горнило-то какое горячее!
Р. М. Гер объясняет так: «Пока аресты касались людей, мне не знакомых или малоизвестных, у меня и моих знакомых не возникало сомнения в обоснованности (!) этих арестов. Но когда были арестованы близкие мне люди и я сама, и встретилась в заключении с десятками преданнейших коммунистов, то…»
Одним словом, они оставались спокойны, пока сажали общество. «Вскипел их разум возмущённый», когда стали сажать их сообщество. Сталин нарушил табу, которое казалось твёрдо установленным, и потому так весело было жить.
Конечно ошеломишься! Конечно диковато было это воспринять! В камерах спрашивали вгоряче:
– Товарищи! Не знаете? – чей переворот? Кто захватил власть в городе?
И долго ещё потом, убедясь в безповоротности, вздыхали и стонали: «Был бы жив Ильич – никогда б этого не было!»
(А чего этого? Разве не это же было раньше с другими? – см. Часть Первую, главы 8, 9.)
Но всё же – государственные люди! просвещённые марксисты! теоретические умы! – как же они справились с этим испытанием? как же они переработали и осмыслили заранее не разжёванное, в газетах не разъяснённое историческое событие? (А исторические события и всегда налетают внезапно.)
Годами грубо натасканные по поддельному следу, вот какие давали они объяснения, поражающие глубиной:
1) это – очень ловкая работа иностранных разведок;
2) это – вредительство огромного масштаба! в НКВД засели вредители! (смешанный вариант: в НКВД засели немецкие разведчики);
3) это – затея местных энкаведистов;
И во всех трёх случаях: мы сами виноваты в потере бдительности! Сталин ничего не знает! Сталин не знает об этих арестах!! Вот он узнает – он всех их разгромит, а нас освободит!!
4) в рядах партии действительно страшная измена (а почему??), и во всей стране кишат враги, и большинство здесь посажены правильно, это уже не коммунисты, это контрюги, и надо в камере остерегаться, не надо при них разговаривать. Только я посажен совершенно невинно. Ну, может быть, ещё и ты. (К этому варианту примыкал и Механошин, бывший член Реввоенсовета. То есть выпусти его, дай волю – скольких бы он сажал!);
5) эти репрессии – историческая необходимость развития нашего общества. (Так говорили немногие из теоретиков, не потерявшие владение собой, например профессор из Плехановского института народного хозяйства. Объяснение-то верное, и можно было бы восхититься, как он это правильно и быстро понял, – да закономерности-то самой никто из них не объяснил, а только в дуделку из постоянного набора: «историческая необходимость развития»; на что угодно так непонятно говори – и всегда будешь прав.)
И во всех пяти вариантах никто, конечно, не обвинял Сталина – он оставался незатменным солнцем!
На фоне этих изумительных объяснений психологически очень возможным кажется и то, которое приписывает своим персонажам Нароков (Марченко) в «Мнимых величинах»: что все эти посадки есть просто спектакль, проверка верных сталинцев. Надо делать всё, что от тебя требуют, и кто будет подписывать всё и не озлится – тот будет потом сильно возвышен.
И если вдруг кто-нибудь из старых партийцев, например Александр Иванович Якшевич, белорусский цензор, хрипел в углу камеры, что Сталин – никакая не правая рука Ленина, а – собака, и пока он не подохнет – добра не будет, – на такого ортодоксы бросались с кулаками, на такого спешили донести своему следователю!