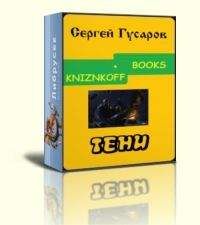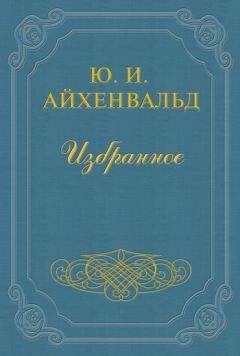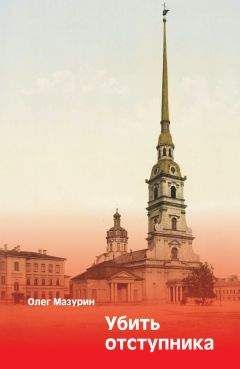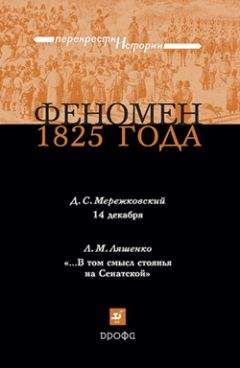Сергей Терпигорев - Потревоженные тени
За обедом мы наконец этого нового доктора увидали. Фамилия его была Захарченко, и звали его Александром Павловичем. Он, действительно, был и очень красив и сразу нам понравился своей простотой и веселостью. Он один был весел за обедом, составляя живой контраст с отцом, который сидел какой-то рассеянный, как бы от какой-то мысли, занимавшей его и поглотившей все его внимание, и матушкой, с постным лицом угощавшей доктора и поминутно вздыхавшей.
Почти сейчас же после обеда приехали, воспользовавшись свободным временем, по случаю дурной погоды, ближние наши соседи целой семьей — с детьми и гувернантками. Хоть и не подходили теперь гости ко всей обстановке и господствовавшему в нашем доме настроению, но нельзя же было отказывать, и потом, они привезли с собою все-таки хотя немного живого воздуха: явились свежие, веселые лица. Жизнь берет свое и тогда даже, когда рядом, на виду у нее, смерть делает свое дело. Александр Павлович, доктор, остался тоже у нас в ожидании возвращения из города посланного с лекарством. Он, вместе с матушкой и приехавшей к нам соседкой, пожелавшей тоже посмотреть интересную больную, опять ходили наверх, и так как нового и вообще никакой там перемены в состоянии больной не произошло, даже, напротив, она была как будто бы покойней и вообще казалось, ей немного лучше, то, по их возвращении оттуда, мало-помалу стало свободнее и веселей и у нас внизу. Александр Павлович, доктор, сел за фортепьяно и заиграл что-то. Матушка спросила его, не обеспокоит ли это больную, он улыбнулся и отрицательно покачал головой. Он отлично пел, — это знали — и его стали просить что-нибудь спеть. Он охотно согласился и запел. Все наконец совсем оживились. В антрактах между пением он заиграл какую-то польку или вальс, и нас, детей, вместе с приехавшими гостями-детьми заставили танцевать. Во время этого водворившегося мало-помалу у нас беззаботного и веселого расположения с верху к матушке пришла Матреша и подала ей какую-то записочку. Матушка прочла ее, улыбнулась и стала просить Александра Павловича спеть какой-то романс. Записку прислала «она», с верху, и спрашивала: не поет ли такой-то романс доктор? Если поет, то нельзя ли спеть... Он сейчас же охотно согласился, взял несколько громких аккордов и запел. Чтобы «ей» лучше было слышно, двери в комнату, откуда шла лестница к «ней» наверх, отворили. «Она», таким образом, как бы принимала участие вместе с нами в веселье... После этого все пошло еще непринужденнее, веселей. Матушка ходила опять к ней наверх и принесла известие, что «она» там оживилась и благодарила все, что ей романс спели и вообще веселятся, поют и играют...
Приехавшие гости-соседи остались у нас ужинать; погода прояснилась — было только сыро от дождя. Приехал посланный из города и привез лекарство и с почты письма, газеты и журналы, которые тогда, кажется, один отец во всем уезде и получал... После ужина, прошедшего довольно живо и весело, уже поздно, в полночь, уехали соседи, и с ними уехал и доктор Александр Павлович, предварительно сходивший еще раз к больной и сделавший распоряжения, как и какие давать лекарства и в каком случае. А нас, детей, увели, уложили спать, и мы заснули самым безмятежным сном...
XVII
Утра следующего дня я никогда не забуду... Мы проснулись и встали, как обыкновенно, в девятом часу. Я помню, кажется, еще спросил кого-то: «Что там, наверху?» — и мне ответили, что ничего, все по-прежнему. Но когда мы были уж совсем готовы и хотели идти в столовую к матушке пить чай, вдруг вошел Никифор-лакей с подносом, на котором были налитые наши с сестрой чайные чашки и чашка Анны Карловны. Я в недоумении остановился — что это такое? Никифор ничего не отвечал на мой вопрос, обращенный к нему, а Анна Карловна сказала, что в столовой есть кто-то, при ком матушка не хочет, чтобы мы выходили. Этого никогда не бывало прежде, и сказала она это как-то странно-подозрительно...
— Там кто? — спросил я Никифора; но тот уж уходил и опять ничего мне не ответил.
Было что-то во всем этом необъяснимо-странное, и не только странное, но тревожное, загадочное. Няньки и вообще никого, кроме Анны Карловны, с нами не было. Как только мы напились чаю, она сейчас же пошла с нами в смежную, рядом с детской, комнату, классную, хотя погода в этот день была солнечная и, следовательно, по летнему положению мы должны бы были с ней идти гулять в сад, а вовсе не заниматься.
— Сейчас маменька придет и отпустит вас, — сказала она в ответ на мой вопрос, — а теперь пойдемте.
Я повиновался. Сестра тоже как-то странно и удивленно поглядывала на нее и на меня.
Наконец мы уселись вокруг стола, достали наши тетрадки, и Анна Карловна начала нам диктовать. Прошло с полчаса. Я писал, путал, ошибался, совсем не то у меня было в голове, предчувствие чего-то нехорошего не оставляло меня и моих мыслей в покое. Я помнил, что года два тому назад, когда нашли в саду зарезанную ночью жену повара Степана (ее зарезал молодой малый, конюх, «из любви»), нас тоже не выпускали никуда из классной, пока не кончилось все, то есть похороны ее. Я писал, а сам все думал, подыскивал причины, почему мы сидим теперь и нас не пускают гулять в сад?.. В классной окно было отворено, и это еще больше манило в зелень, в тень; все так блестело на солнце, деревья стояли такие зеленые после вчерашнего дождя, воздух такой чудный, свежий-свежий, душистый — липы цвели... Вдруг в саду, под самыми нашими окнами, кто-то пробежал, и вслед за тем голоса:
— Евпраксия Егоровна! — услыхал я голос Матреши. — Что ж вы не идете? Идите же... барыня ждут одевать покойницу...
Я вскочил с места, выглянул в окно, мимо проходила Евыраксеюшка« старуха, и с ней Матреша.
— Кто покойница, какую покойницу? — Крикнул я им.
Матреша с заплаканными глазами вскинула на меня свое лицо.
— Барышню, Лизавету Семеновну, — моргая глазами, на которых блестели слезы, отвечала она.
Вокруг меня уже стояли сестра, Анна Карловна, откуда-то явившаяся вдруг нянька, Дарья Афанасьевна, и они что-то говорили. Анна Карловна выговаривала, упрекала — я ничего не слыхал, не понимал, не слушал их: я был весь под влиянием того, что я услыхал, узнал сейчас... Они, должно быть, поняли, догадались наконец, что упрекать меня теперь не время вовсе, и принялись уговаривать и успокаивать.
— Ну что ж, видно, уж богу так угодно было. Ей, может, там, на том свете, лучше будет... Что ж делать — видно, так судьба уж...
Я посматривал на них и как-то не то чтобы успокоился после первого известия, поразившего меня, а словно как бы одеревенел.
— Она когда же умерла? — спросил я.
— В восемь часов... утром.
— Это мы уж встали, проснулись, — про себя соображал я вслух.
В это время я увидел сестру Соню. Она стояла тут же и плакала, смотря на меня и утирая платочком слезы.
— Тебе ее жаль? — спросил я.
— Жа-а-ль, — ответила она.
— Да как же не жалко, всем жалко, — говорили и нянька и Анна Карловна. — Бог прибрал — видно, он лучше знает, что делает.
Потом пришла матушка. Что-то она нам говорила, объясняла, — я ничего не помнил и не понимал. Потом приходили и другие женщины, горничные. Эти рассказывали одна другой какие-то подробности, как она умирала и умерла. Потом я видел или слышал, как приезжали попы, носили восковые свечи, к нам в классную откуда-то проникал запах ладана. В таком состоянии я пробыл до вечера. В сумерки я задумался, глядя в окно, в сад, и у меня вдруг хлынули слезы, неудержимые, горячие, и мне вдруг все стало словно яснее, словно сейчас только явилось у меня сознание и я начал понимать, что кругом меня делается... Меня никто не останавливал, не уговаривал, не успокаивал, все как будто даже делали вид, что меня, или, по крайней мере, того, что я плачу, не замечают... И вдруг какое-то горькое-горькое чувство, как от оскорбительной неправды, обиды, наполнило душу мне... А еще немного погодя я уж ощущал в себе какое-то сильное, сознательное, смелое до дерзости, до вызова, порывистое, решительное чувство... Против кого? Если бы меня тогда спросили, едва ли бы я сказал: «против дяди!..», хотя и его и его управляющего, Максима, имена и не выходили у меня из головы... Я и на Анну Карловну, смотрел как на обидевшую меня тем, что скрыла от меня истину, и на матушку — с упреком, что и она не поняла меня, не пожалела меня, не сказала, и на всех этих назойливо-досадных девушек и женщин, которые и плакали и вместе с тем судачили, болтали, интересуясь такими все пустяками и глупостями!..
Вечером в комнату к нам пришел отец, мы не видали его целый день (обедать нам приносили сюда, в детскую), и, заметив наше уныние и подавленное настроение, начал было бодро что-то рассказывать и даже попробовал смеяться, шутить с нами; но из этого ничего не вышло. Он понял это и сказал:
— А жалко ее, бедную...
Посидел, поговорил еще о чем-то и ушел...
На третий день утром, часов с девяти, в доме поднялась суета. Мы из окон смотрели, как покойницу выносили, то есть мы видели только гроб ее, — как с того же крыльца, на которое, только четыре дня перед тем, ее вносили больную, в надежде, что она проживет у нас и покойнее и дольше, теперь, так же осторожно, взявшись целой кучей, спускали ее гроб, обитый яркой материей с золотыми на нем крестами. Потом этот гроб понесли через двор. А затем, когда люди с ним были едва видны по дороге, к крыльцу подали экипаж, и в нем, вместе с нянькой и Евпраксеюшкой, уехала в церковь и матушка...