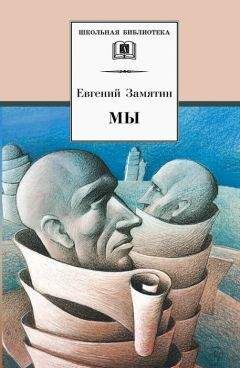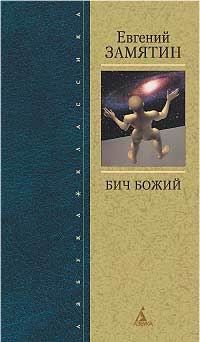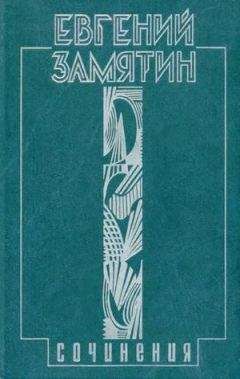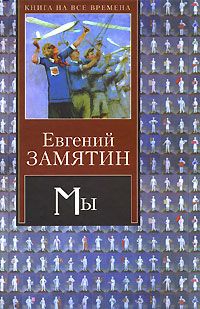Евгений Замятин - Том 1. Уездное
Перевертывает Настя страницу. А что, бишь, это было – о чем на той-то? Как будто и не читала. Только всего и вспоминается: внизу страницы, в уголку, треугольник нарисован, в треугольнике – глаза и рот, и приделаны удивительные усы.
Мать сидит тут же в кресле, с закрытыми глазами. Вот вынула синий флакон, нюхает, морщится.
«Мигрень, ага? Так тебе и надо, так и надо! Это за то, что…»
И вдруг роняет Настя книгу – снизу звонко кличет голос:
– Настя, вы тут, а? Идите – в крокет играть.
Тишь. Слышит Настя – бьет сердце в набат. Не шевельнется.
– Да идите же! Ну, чего, в самом деле, не притворяйтесь, я же видал вас в окне.
Колыхнул занавеску ветер вечерний. Нет, нет, не надо туда, не глядеть… Ухватилась Настя в книге за чужое, колючее какое-то, слово. Верцингеторикс, Верцингеторикс. Десять, двадцать, сорок Верцингеториксов. А снизу:
– Вы даже говорить не хотите? Ну, я в последний раз…
«Коля, милый, да хочу же. Коля, хочу!» – кричит Настя неслышно.
И опять: Верцингеторикс, Верцингеторикс, Верцингеторикс.
Еще минуту – еще минуту глядит Коля снизу в окно. А-а… Она молчит? Значит, все это и что утром нынче было, все – фикция? Ну, хорошо же, ну хорошо!
Хохочет Коля нарочно громко и идет к красному колу, к Варюше. Очень уж курбастенькая она, Варюша, – тумбочка, правда. Все равно, пусть.
– Будем, Варюша, с вами играть. Не вечно же быть врагами. Да и кроме того, от ненависти ведь один только шаг до…
Заливается на верхах курбастенькая Варюша, смеется Коля. Играют. Все – слышно – все до капельки слышно наверху.
«Ему все равно, ему весело. Верцингеторикс, Верцингеторикс. Все кончено, все».
Солнце ушло. Небо – пустое, конца нет пустоте. Темно веет ветер закатный.
Перед уходом – мать зажгла лампу: кончен день. Но не радует Настю и материн уход: ведь кончен же апрельский сбетлый день, кончен!
И страшнее всего: сейчас велит лошадь запречь, поедет мать к директору реальному… Ну как же теперь, как?
– Ко-оля, Ко-оля!
Никого на дворе. В потухающее небо врезана черная, голая еще ветка. И такая печаль от ветки этой, что хочется Насте…
Но справа из-за угла – веселый визг. Да, это она, курбастая, а за нею… А за нею – вдогонку – Коля. Ой, зачем же он, зачем он?
Догнал, ухватил – и туда, под темный навес – и…
Под навесом темно.
Чуть-чуть вот нажмет еще Настя зубы – и кажется, хрупнут, и рот будет полон жемчужных крох.
«Теперь надо… теперь уж пора, все равно».
Глянула Настя вниз. Так близко белеют плиты. Страшно, в-в-в… И жаль. Чего? Себя? Или ясной весны?
Все равно. Это надо. Ну, подождать, пока стемнеет. И еще сказать сначала ему, предупредить, что мать…
И тихим, сломленным голосом Настя зовет:
– Коля!
Не сразу, нарочно-лениво, подходит он к окну.
– Вы? Ах, вы, Настя? Я задержал вас, простите, мы… мы играем.
Крепче держится Настя за подоконник.
– Я ничего, Коля – я только… Ведь мать сейчас поедет… Она хотела сказать вашему директору про сегодняшнее утро.
И теплится Настя: «Вот, услышит он сейчас: утро – и вспомнит, и все будет…»
– Сегодняшнее утро? Вот пустяки-то! – Коля смеется.
«Пустяки? Господи, это пустяки!»
– А ваша мать с мопсом уехала, я видал. Ни к какому, значит, не к директору, а кататься. С мопсом-то – к директору? Хо!
Настя задернула занавеску. Стыд-стыд – стыд! И хуже всего, что мать – с мопсом…
Но смиряет себя: теперь, как перед причастием, надо простить. И его тоже. Потом – подождать, пока совсем стемнеет…
И стоя за занавеской – Настя шепчет:
– Милый Коля, я тебя прощаю. Господи, помоги простить, помоги все простить!
Драгоценная, прозрачная, спускается ночь за окном, тонкая, гнется, тонкая – без теней, без шепота листьев. Нежно-зеленая трава затуманивается грустью, чуть-чуть лиловеет. Страшно деревьям шевельнуться: не поцарапать бы голою веткой прозрачное небо. В сумраке улицы где-то мальчишки кричат звонкими голосами, доигрывают в бабки на просохшей за день дорожке, приглядываются к чуть видным, белым на земле и звенят битками. На минуту замолкли – и совсем тихо, прозрачно.
И останавливаются на улице двое идущих под руку. Неведомо, кто они: в апрельскую ночь мало ли бродит околдованных? Останавливаются двое неведомых: сил нету дальше идо Смотрят на белые, далекой зарей чуть реющие дома с раскрытиями окнами. Сил нет: садятся наземь, проводят по траве ненароком – и вот мокрые руки – в апрельской росе. Так хорошо приложить к горячим щекам…
Неясно и нежно зовет мальчика ночь. Выходит из дому, – там зажгли уж огни. Вдыхает отраву апрельских рос. Минутку стоит так, пьянея. Протирает застланные странным туманом глаза, бежит к Настиному окну, спотыкается, протягивает вверх руки и зовет, ему кажется – один он и слышит:
– Настя! Настя же!
Настя вздрагивает, поднимается с подушки.
– Настя. Вот, я стану на колени, хочешь? Я стал. Только не молчи, не молчи. Ведь я тебя лю-люблю… А то, что я сделал.
Снова жить – бросилась Настя к окну. Хлынула теплая волна слез, затопила.
– Мама меня… И вы – и вы – еще… А мне завтра попра… оправляться…
И катятся между пальцев – катятся драгоценным жемчугом слезы, падают вниз.
– Настя! Милая! Вот, ведь я знаю, знаю же, если бы я был с тобой, ты бы простила, ведь я бы тебя, ведь я бы… не знаю что!
Где-то сзади открыли окно, глядят и смеются. Ну и пусть, ничего сейчас не стыдно, все для Коли – фикция, и не встанет он с белеющих каменных плит.
Со слезами Настя мешает смех, вся нагибается из окна вниз, протягивает руки:
– Милый мой… Нет, не достану, не могу тебя достать!
Секунду молчит. Увидела: наклонились сверху над ней неяркие, весенние звезды. Обрадовалась, вспомнила:
– Коля, а ты знаешь? Ведь я хотела за тебя броситься вниз, вот сюда. Теперь бы уж бросилась. Звезды, погляди…
Из открытого напротив окна – смеются. Ах, пусть смеются: они не понимают, большие, не могут, бедные, понять.
1912
Старшина*
Конона Тюрина сын Ванятка – больно к науке негож был. Все, бывало, молился:
– Господи, да пошли ж ты, штоб училишша сгорела и мне ба туда не итатъ…
Сгореть – училище не сгорело, целехонько стояло, а все из Ванятки толку не вышло. В солдаты пошел Иван – зазнали и там с ним горя. Сиволапый, громадный, косный, ходит не в ногу. Бей его – спину подставит, не крякнет, да что из того проку? Последнее дело – винтовку кликать, как след, и тому Тюрин Иван не обучился.
– Трехлинейная, понял? Трех-ли-нейная.
– Т-трех-лилейная, – старательно выговаривал Иван.
Спрашивали Ивана:
– Что такое выстрел? Ну, живо?
Иван отвечал:
– Этта… когда… пуля из ружа лезя…
Так безграмотным и домой вернулся Иван – в село Ленивку. Обженили его – на Степаниде, из богатого двора – Свисткёвых, стали величать Иван Коныч. И зажил Иван Коныч большим мужиком, сеял хлеб, убирал, все – как надо. Без дела языка не чесал, ну и Степанида – помалу молчать приобыкла: боялась своего мужика – добре уж тяжел. Когда, случится, дома Ивана нет – тут Степанида наплачется всласть, у окошечка на лавке сидя.
Днем рыскали по избе тараканы, ночью жиляли блохи, ели Тюрины грязно. А Иван приговаривал:
– Ни-ча-во! Бык вон помои пивал, а и то – здоров бывал.
Три года было урожайных: сколотил себе Иван деньжат, новую избу поставил. Ночью, наране новоселья, вышел на двор. Громадный, косматый, силища – согнулся в три погибели, до земли поклонился старой избе:
– Батюшка домовой, пожалуй в новый покой.
И так – до трех раз. Но вышло новоселье к лиху: сидели без хлеба, по людям хворь какая-то ходила, от животов – вот как мерли. Приехал тут земский, Тишка Мухортов, и с ним – доктор. Объявили холеру: того-то, мол, не пейте, того-то не ешьте. Собрали сход мужики, загалдели:
– Да это что ж нам – помирать, стало быть, не пимши, не емши?
– Подсыпали в воду-то, а потом на попятный: не пей…
– Да что там, выкупать их в этой воде, оно и…
Земский и доктор сидели на съезжей, слушали – и дрожмя дрожали. Староста туда-сюда: «Что вы, братцы, что вы, рази можно…» А сход – ему уж не верит: видимое дело, староста с господами заодно.
Тут-то Иван Коныч могутным плечом распихал народ и лоб нагнувши, как бык, влез на крыльцо. Шапку снял, перекрестился:
– А Бога-то, братцы, забыли, а? Опахивать надо, вот что!
Доктора и земского отпустили, опахали Ленивку в ту же ночь. Стали теперь и Докторовы снадобья пить: потому – опахали, ну стало быть – и снадобья не страшны. И что же: ушла ведь холера-то.
Земский Ивану Конычу по гроб жизни был благодарен – за то, что его с доктором выручил тогда Коныч; а мужики кланялись Ивану Конычу – за то, что Ленивку опахать надоумил. Так оно и вышло, что стал ходить в старостах Коныч, а малость погодя – в старшинах волостных.