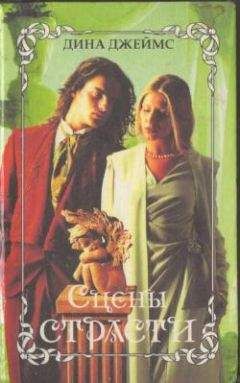Николай Лесков - Божедомы
А потом:
Свеженькой кровушки
Повыточим, повыточим. —
Теперь кому премию дать? Шум: ги-га-го-у! Одного провалили, другого… Свист! Теперь большинство голосов, чтобы Некрасову выдать премию: у имущего будет и преизбудет! Опять шум. Не согласны. Не надо. За что? Красные петухи зевают: “Он Муравьеву стихи писал”. Смятение. Кому же? Голос из-под земли: “Краевскому!” Кому? Краевскому премию, вот кому! Спор: отчего и почему? Он “Голос” издает. Позор! Но он и “Отечественные” издает! Честь. Да и доказать тут всем, что такое есть Краевский: одной рукой в тех, другой – в этих, и налаживает, и разлаживает, а в общем от этого все разлад. Голоса: молодчина Краевский, вполне молодчина! В прошедшем отличный, в настоящем полезен, в будущем благонадежен. Я всех покрываю: он! он, Краевский, достоин Монтиона! Почему я так действую? Потому что я его вижу, он всем служил, и придет антихрист, понадобится ему орган, он которою-нибудь рукою и антихриста поддержит, и молодчина! Вольф дает звонок, тишина, и премия присуждается Краевскому. Потом команда: “Всех бесчестных к столбам!” Начинается: Каткова первого, Аксакова, Леонтьева, Писемского, Стебницкого… ну и еще сколько их таких наберется. Теперь их уж не очень и много. Ну тут как этих прикрепят – щит… Краевского на рыцарский щит триумфатором… и идем и несем его на щите над головами. Крестовский впереди на уланском коне едет, и поем похвальную песнь-гимн, “краевский гимн”, так называется будет. – Термосёсов ударил ладонью по столу и запел на голос одного известного марша:
Персидский шах его почтил,
Стал “Голос” старца бесподобен,
Он “Льва и Солнца” получил
За то, что льву он доблестью подобен,
И солнце разумом затмил,
Затмил, затмил, затмил! —
И с этим мы уходим; сцена остается темною, и на ней у столбов одни бесчестные, – заключил Термосёсов и вдруг, быстро поднявшись, взял Омнепотенского за плечи и сказал:
– Ну так приноси сейчас сюда бумагу и пиши.
– Что писать? – осведомился Омнепотенский.
– Приноси: я скажу тогда. Пойди-ка сюда в уголок!
– Вот что напишешь, – заговорил он на ухо Омнепотенскому. – Все, что видел и что слышал от этого Туганова и от попа, все изобрази и пошли.
– Куда? – осведомился, широко раскрывая от удивления свои глаза, Омнепотенский. Термосёсов ему шепнул.
– Что вы? Что вы это? – громко заговорил, отчаянно замахав руками, Омнепотенский.
– Да ведь ты их ненавидишь! – заговорил громко и Термосёсов.
– Ну так что ж такое!
– Ну и режь их.
– Да; но позвольте… я не подлец, чтоб…
– Что тако-ое? Ты не подлец?.. Так, стало быть, я у тебя выхожу подлец! – азартно вскрикнул Термосёсов.
– Я этого не сказал… – торопливо заговорил Омнепотенский, – я только сказал…
– Пошел вон! – перебил его, показывая рукою на двери, Термосёсов.
– Я только сказал…
– Пошел вон!
– Вы меня позвали, а я и сам не хотел идти… вы меня зазвали на лампопό…
– Да!.. Ну так вот тебе и лампопό! – ответил Термосёсов, давая Омнепотенскому страшнейшую затрещину по затылку.
– Я говорю, что я не доносчик, – пролепетал в своем полете к двери Омнепотенский.
– Ладно! Ступай-ка прогуляйся, – сказал вслед ему Термосёсов и запер за ним дверь.
Смотревший на всю эту сцену Ахилла неудержимо расхохотался.
– Чего это ты? – спросил его, садясь за стол, Термосёсов.
– Да, брат, уж это лампопό! Могу сказать, что лампопό.
– Ну а с тобой давай петь.
– Я петь люблю, – отвечал дьякон.
Термосёсов чокнулся с Ахиллою рюмками и, сказав “валяй”, – запел на голос солдатской песни:
Николаша – наш отец,
Мы совьем тебе венец.
Мы совьем тебе венец
От своих чистых сердец.
– Ну валяй теперь вместе; – и они пропели второй раз, но Ахилла вместо “чистых сердец” ошибся и сказал: “от своих святых колец”.
– “Сердец”, – крикнул ему гневно Термосёсов.
– Не все равно, колец?
– Каких колец?
– Ну, подлец, – пошутил Ахилла.
– Каких подлец? Ты что это, тоже?.. Как ты это смеешь говорить? А знаешь, я тебя за это… тоже этаким лампопό угощу?
Добродушный Ахилла думал, что Термосёсов с ним шутит и хотел взять и поднять Термосёсова на руки. Но Термосёсов в это самое мгновение неожиданно закатил ему под самое сердце такого бокса, что Ахилла отошел в угол и сказал:
– Ну, однако ж, ты свинья. Я тебе в шутку, а ты за что же дерешься?
– Да ты, скотина, знаешь ли, за кого ты эту песню пел? – гневно спросил Термосёсов.
– Почему я могу это знать? – отвечал весьма резонабельно Ахилла.
– Так вот, вперед знай: это про Некрасова пето “Николаша наш отец“ – это про Некрасова песня. А ты, небось, думал черт знает про кого? Ну вот теперь будешь знать, про кого. Хочешь если петь и пить, напиши сейчас, что я тебе стану говорить.
– Да я тебе что же за писарь такой?
– Писарь? Не писарь, а ты говорил, что тебе попова политика осточертела?
– Ну говорил.
– А напишешь штуку, и не будет попа.
– Да ты что же это такое говоришь? – вопросил, широко раскрывая глаза, Ахилла.
Он в самом деле ничего не понимал, куда это идет и к чему клонится, и простодушно продолжал:
– Это от лихорадки симпатию пишут, а ты что?
– Что? Вот что, – проговорил Термосёсов, убедясь в несоответственности Ахиллы для его планов, и вдруг, взяв со стола шляпу Ахиллы, бросил ее к порогу.
Ахилла молча посмотрел на Термосёсова и, подойдя к своей шляпе, нагнулся, чтобы поднять ее, но в это же мгновение получил такой оглушительный удар по затылку и толчок в спину, что вылетел за дверь и упал на дорожку.
Подняв голову, он увидел на дверях, из которых его вышвырнули, Термосёсова, который погрозил ему короткою деревянною лопатою, что стояла забытая в беседке, и затем скрылся внутрь беседки и звонко щелкнул за собою задвижкою двери.
Термосёсов остался с Данкою наедине. Неудачно заиграв сегодня на Варнаве и Ахилле, он решил утешить себя немедленной удачей в любви. Данка почувствовала это, затрепетала, и на этот раз совершенно недаром.
VIII
Ахилла едва отыскал свою палку, которую вслед за ним вышвырнул ему из беседки Термосёсов. Отыскивая в кустах эту палку, он с тем вместе отыскал здесь и Варнаву, который сидел в отупении под кустом на земле и хлопал посоловевшими и испуганными глазами.
– А, это ты, брат, здесь, Варнава Васильич! – заговорил к нему ласково дьякон. – Ведь лампопό-то какое! Ах ты, прах тебя возьми совсем-навсем! Пойдем его вдвоем вздуем сейчас!
– Нет, уж что!.. – протянул кое-как Омнепотенский.
– Отчего?
– Да у меня… смерть болова голит.
– Ну, “болова голит”… Опять начал: “Лимона Ивановна, позвольте мне матренчика”. Иди, – ничего, пройдет голова.
– Нет; что ж это… кулачное право… Я не хочу драться.
– Да что он тебе такое сказал обидное?
– Этого нельзя говорить.
– Отчего же нельзя?
– Нельзя, потому что… вы теперь на него сердиты и вы… можете это рассказать кому-нибудь.
– Ну так что ж? Да, если он чему дрянному тебя учил, так отчего же этого и не рассказать?
– После… худые… худебствия… худые последствия это может иметь, – выговорил наконец Омнепотенский.
В это время, прежде чем Ахилла собрался ответить, в садовую калитку со двора взошел сам акцизный чиновник Бизюкин и, посмотрев на Ахиллу и на Омнепотенского, проговорил:
– Ну, ну, однако, вы, ребята, нарезались.
– Нарезались, – отвечал Ахилла, – да, брат, нарезались, могу сказать.
– Чем это вы? – запытал Бизюкин.
– Лампопό, брат, нас угощали. Иди туда, в беседку – там еще и на твою долю осталось.
– Осталось? – шутливо переспросил Бизюкин.
– Будет, будет, – на всех хватит.
– А вы, Варнава Васильич, что же все молчите?
– Извините, – отвечал, робко кланяясь Бизюкину, Варнава. – А что?
– Знакό лицомое, а где вас помнил, не увижу, – заплетая языком, пролепетал Варнава.
– Ну, брат, налимонился, – ответил Бизюкин, хлопнув рукою по плечу Варнаву и непосредственно затем спросил Ахиллу:
– А где же моя жена?
– Жена? А там она, в беседке.
– Что же, ее одну оставили?
– Да на что же мы ей? У них там лампопό идет.
– Да что вы помешались все, что ли, на этом лампопό? У кого, у них? С кем же она там?
– Она? Да там с ней Термосёсов.
Бизюкин без дальнейших рассуждений с приятной улыбкой на лице отправился к беседке, а Ахилла, нежно обняв рукою за талию Варнаву, повел его вон из саду.
Бизюкин не взошел в беседку, потому что в то самое время, когда он ступил ногой на первую ступеньку, дверь беседки быстро распахнулась и оттуда навстречу ему выскочила Данка, красная, с расширенными зрачками глаз и помятой прической. При виде мужа, она остановилась, закрыла руками лицо и вскрикнула:
– Ах!
– Чего ты, Дана? – спросил ее участливо муж.
– Не говори! ничего не говори!.. я все скажу… – пролепетала Данка.