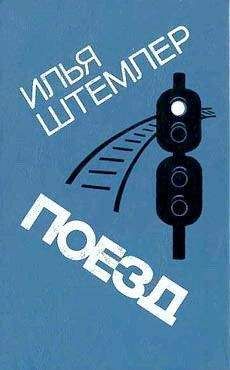Александр Солженицын - Архипелаг ГУЛАГ. Книга 2
А инженеры? Сколькие среди них, не подписавшие глупых и гнусных признаний во вредительстве, рассеяны и расстреляны? И какой звездой блещет среди них Пётр Акимович Пальчинский (1875–1929)! Это был инженер-учёный с широтой интересов поразительной. Выпускник (1900) Горного института, выдающийся горняк, он, как мы видим из списка его трудов, изучал и оставил работы по общим вопросам экономического развития, о колебаниях промышленных цен, об экспорте угля, об оборудовании и работе торговых портов Европы, экономических проблемах портового хозяйства, о технике безопасности в Германии, о концентрации в германской и английской горной промышленности, о горной экономике, о восстановлении и развитии промышленности стройматериалов в СССР, об общей подготовке инженеров в высших школах – и сверх того работы по собственно горному делу, описание отдельных районов и отдельных месторождений (и ещё не все работы известны нам сейчас). Как Войно-Ясенецкий в медицине, так горя бы не знал и Пальчинский в своём инженерном деле; но как тот не мог не содействовать вере, так этот не мог не вмешаться в политику. Ещё студентом Горного института Пальчинский числился у жандармов «вожаком движения», в 1900 председательствовал на студенческой сходке. Уже инженером в 1905 в Иркутске занимал видное место в революционных волнениях и был по «делу об Иркутской республике» осуждён на каторжные работы. Он бежал, уехал в Европу. Годы эмиграции он совершенствовался по нескольким инженерным профилям, изучил европейскую технику и экономику, но не упускал из виду и программу народных изданий «для проведения анархистских идей в массах». В 1913, амнистированный и возвращаясь в Россию, он писал Кропоткину: «В виде программы своей деятельности в России я поставил… всюду, где был бы в состоянии, принять участие в развитии производительных сил страны вообще и в развитии общественной самодеятельности в самом широком смысле этого слова»[139]. В первый же объезд крупных русских центров ему наперебой предлагали баллотироваться в управляющие делами совета съезда горнопромышленников, предоставляли «блестящие директорские места в Донбассе», консультантские посты при банках, чтение лекций в Горном институте, пост директора Горного департамента. Мало было в России работников с такой энергией и такими широкими знаниями.
И какая же судьба ждала его дальше? Уже упоминалось (Часть Первая, глава 10), что он стал в войну товарищем председателя Военно-Промышленного комитета, а после Февральской революции – товарищем министра торговли и промышленности. Как самый, очевидно, энергичный из членов безвольного Временного правительства, Пальчинский побыл даже генерал-губернатором Петрограда, в октябрьские дни – начальником обороны Зимнего дворца. Немедленно же он был посажен в Петропавловку, просидел там 4 месяца, правда, отпущен. В июне 1918 снова арестован без предъявления какого-либо обвинения. 6 сентября 1918 включён в список 122 видных заложников («если… будет убит ещё хоть один из советских работников, нижеперечисленные заложники будут расстреляны», ПетроЧК, председатель Г. Бокий, секретарь А. Иоселевич[140]). Однако не был расстрелян, а в конце 1918 даже и освобождён из-за неуместного вмешательства швейцарского социал-демократа Карла Моора (изумлённого, каких людей мы гноим в тюрьме). С 1920 он – профессор Горного института, навещает и Кропоткина в Дмитрове, после скорой его смерти создаёт комитет по (неудавшемуся) увековечению его памяти – и вскоре же, за это или не за это, снова посажен. В архиве сохранился любопытный документ об освобождении Пальчинского из этого третьего советского заключения – письмо в Московский Ревтрибунал от 16 января 1922:
«Ввиду того, что постоянный консультант Госплана инженер П. А. Пальчинский 18 января с. г. в три часа дня выступает в качестве докладчика в Южбюро по вопросу о восстановлении южной металлургии, имеющей особо важное значение в настоящий момент, президиум Госплана просит Ревтрибунал освободить тов. Пальчинского к указанному выше часу для исполнения возложенного на него поручения.
Пред. Госплана Кржижановский»[141].Просит (и довольно безправно). И только потому, что южная металлургия – «особо важное значение в настоящий момент»… и только – «для исполнения поручения», а там – хоть пропади, хоть забирайте в камеру назад.
Нет, Пальчинскому дали ещё поработать над восстановлением горной добычи в СССР. После героической тюремной стойкости его расстреляли без суда только в 1929 году.
Надо совсем не любить свою страну, надо быть ей чужаком, чтобы расстреливать гордость нации – её сгущённые знания, энергию и талант!
Да не то же ли самое и через 12 лет с Николаем Ивановичем Вавиловым? Разве Вавилов – не подлинный политический (по горькой нужде)? За 11 месяцев следствия он перенёс 400 допросов. И на суде (9 июля 1941) не признал обвинений!
А безо всякой славы мировой – гидротехник профессор Родионов (о нём рассказывает Витковский). Попав в заключение, он отказался работать по специальности – хотя это самый лёгкий был для него путь. И тачал сапоги. Разве это – не подлинный политический? Он был мирный гидротехник, он не готовился к борьбе, но если против тюремщиков он упёрся в своих убеждениях – разве он не истый политический? Какая ему ещё партийная книжка?
Как внезапно звезда ярчеет в сотни раз – и потухает, так человек, не расположенный быть политическим, может дать короткую сильную вспышку в тюрьме и за неё погибнуть. Обычно мы не узнаём этих случаев. Иногда о них расскажет свидетель. Иногда лежит блеклая бумажка и по ней можно строить только предположения:
Яков Ефимович Почтарь, рожд. 1887, безпартийный, врач. С начала войны – на 45-й авиабазе Черноморского флота. Первый приговор военного трибунала Севастопольской базы (17 нояб ря 1941) – 5 лет ИТЛ. Кажется, очень благополучно. Но что это? 22 ноября – второй приговор: расстрел. И 27 ноября расстрелян. Что произошло в роковые пять дней между 17-м и 22-м? Вспыхнул ли он, как звезда? Или просто судьи спохватились, что мало? (По первому делу он теперь реабилитирован. Значит, если бы не второе…?)
А троцкисты? Чистокровные политические, этого у них не отнять.
(Мне кричат! мне колокольчиком звонят: станьте на место! Говорите о единственных политических! – о несокрушимых коммунистах, кто и в лагере продолжал свято верить… – хорошо, отведём им следующую отдельную главу.)
Историки когда-нибудь исследуют: с какого момента у нас потекла струйка политической молодёжи? Мне кажется, с 43–44 года (я не имею в виду молодёжи социалистов и троцкистов). Почти школьники (вспомним «демократическую партию» 1944 года) вдруг задумали искать платформу, отдельную от той, что им усиленно предлагают, подсовывают под ноги. Ну, кем же их ещё назвать?
Только мы и о них ничего не знаем и не узнаем.
А если 22-летний Аркадий Белинков садится в тюрьму за свой первый роман «Черновик чувств» (1943), ненапечатанный конечно, а потом в лагере пишет ещё (но на грани умирания доверяет стукачу Кермайеру и получает новый срок), – неужели мы откажем ему в звании политического?
В 1950 году студенты ленинградского механического техникума создали партию с программой и уставом. Многих расстреляли. Рассказал об этом Арон Левин, получивший 25 лет. Вот и всё, придорожный столбик.
А что нашим современным политическим нужны стойкость и мужество несравненно большие, чем прежним революционерам, это и доказывать не надо. Прежде за большие действия присуждались лёгкие наказания, и революционеры не должны были быть уж так смелы: в случае провала они рисковали только собой (не семьёй!), и даже не головой, а – небольшим сроком.
Что значило до революции расклеить листовки? Забава, всё равно что голубей гонять, не получишь и трёх месяцев срока. Но когда пять мальчиков группы Владимира Гершуни готовят листовки: «наше правительство скомпрометировало себя», – на это нужна примерно та же решимость, что пяти мальчикам группы Александра Ульянова для покушения на царя.
И как это самовозгорается, как это пробуждается само в себе! В городе Ленинске-Кузнецком – единственная мужская школа. С 9-го класса пятеро мальчиков (Миша Бакст, их комсорг; Толя Тарантин, тоже комсомольский активист; Вельвел Рейхтман, Николай Конев и Юрий Аниконов) теряют беззаботность. Они не терзаются девочками, ни новыми танцами, они оглядываются на дикость и пьянство в своём городе и долбят, и листают свой учебник истории, пытаясь как-то связать, сопоставить. Перейдя в 10-й класс, перед выборами в местные советы (1950 год), они печатными буквами выводят свою первую (и последнюю) простоватую листовку:
«Слушай, рабочий! Разве мы живём сейчас той жизнью, за которую боролись и умирали наши деды, отцы и братья? Мы работаем – а получаем жалкие гроши, да и те зажимают… Почитай и подумай о своей жизни…»