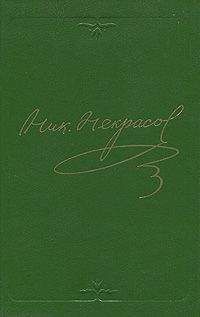Николай Некрасов - Мертвое озеро
Прошло еще несколько времени тихого ожидания. Из соседней комнаты снова послышалось громкое храпенье Савелья. В лице Ивана Софроныча мелькнуло выражение досады и упрека. Он, однако ж, не пошевелился.
– - Слышите, как храпит Савелий,-- тихо сказала Настя.
– - Тс!.. слышу! Эх, Савелий, Савелий! не ожидал я от него этого! -- прошептал Иван Софроныч.
И опять оба они хранили глубокое молчание, которое можно было сравнить только с спокойствием и неподвижностью больного, лежавшего всё в том же положении.
Настя с трепетом прислушивалась к жужжанью мухи, которая билась об стекло с какой-то безумной суетливостью; смотрела на свечу и на черное пятно, окруженное светом, отражавшимся на низком потолке, и поминутно мелькавшее. Тоскливость овладевала ею более и более.
– - Долго ли мы будем так ждать? -- спросила она, чувствуя смертельную ломоту во всем теле.
– - А вот когда очнутся его высокоблагородие да спросят,-- отвечал Иван Софроныч,-- тогда и перестанем.
– - Да спросят ли они? -- простодушно возразила Настя.
Смущение, гнев, ужас выразились в лице Ивана Софроныча. Он с таким негодованием посмотрел на свою дочь, что Настя вся задрожала и, будто уличенная в преступлении, пугливо прошептала:
– - Папенька! я так только сказала.
– - Так! -- возразил Иван Софроныч с каким-то судорожным беспокойством.-- И так не надо говорить пустяков. И кто тебя просит говорить! -- продолжал он с гневом.-- Молода еще, глупа еще, чтоб соваться не в свое дело…
– - Тише, папенька! он, кажется, шевелится,-- сказала Настя, которой в самом деле показалось, что больной пошевелился.
– - Шевелится! Ну, видишь -- пошевелился! -- с живостью подхватил Иван Софроныч, и глаза его впились в больного.
Больной, однако ж, лежал по-прежнему неподвижно, и как ни всматривался Иван Софроныч в лицо и во всю фигуру его, не мог открыть признака движения.
– - Ты точно слышала, как он пошевелился? -- спросил Иван Софроныч Настю.
– - Кажется,-- отвечала Настя.
Иван Софроныч рассердился.
– - Дура! --прошептал он.-- Ведь слышала, что пошевелился? слышала?..
Он ждал ответа. Настя кивнула головой.
– - Так чего ж тут: кажется! нечего и говорить: кажется!
Он стал снова всматриваться в больного, и новое, сейчас только сделанное открытие поразило его: как он ни прислушивался, он не мог услышать дыхания больного. Это открытие вызвало на лице Ивана Софроныча выражение минутного ужаса, которое потом сменилось выражением досады, вероятно относившейся к Савелию, которого храпенье постепенно усиливалось.
– - Слышишь, как он дышит? -- спросил Ивая Софроныч дочь свою.
– - Слышу,-- отвечала запуганная Настя.
Иван Софроныч вздохнул свободнее.
Между тем другие мысли теснились в голове девушки, которая вся трепетала, проникнутая смутным ужасом. Полумрак комнаты, неподвижное, бледное лицо больного, глубокая тишина, нарушаемая только досадным храпеньем Савелья,-- всё пугало ее и настраивало к унылым мыслям. Всматриваясь в лицо больного, она постепенно поражалась более и более его неподвижностью, безжизненной бледностью и тем строгим, пугающим выражением, которое сообщается лицу смертью. Чем более она всматривалась в лицо больного, тем более находила она в нем сходство с холодным, суровым, неподвижным лицом своей бабушки -- единственного существа, которого смерть случилось ей видеть. И чем более думала она о своей бабушке, припоминая ее лежащую в гробу и потом отпеваемую в церкви, тем страшнее и страшнее становилось ей и тем неотвязнее преследовала ее мысль, что Алексей Алексеич также уж умер и даже холоден, как и бабушка. И воображению Насти он уже представлялся в тех самых положениях, в каких она видела свою покойную бабушку в последние дни, до той минуты, как положили ее в могилу и стали засыпать землей. Настя дрожала, и когда наконец страшная мысль совершенно овладела ребенком, она не могла долее противиться ужасу и, невольно оборотившись к отцу без прежней осторожности, громко произнесла:
– - Папенька! да ведь он умер.
Невозможно описать ощущения, отразившегося в лице Ивана Софроныча при восклицании дочери, ни того судорожного негодования, с которым он обернулся к Насте. Казалось, он готов был ударить ее, и только страх нарушить покой благодетеля остановил его руку.
– - Молчать! -- прошептал он голосом, полным подавляющего негодования.-- Да ты что, доктор, что ли? У матери выучилась вздор молоть. Молода еще, глупа еще! Вот нашлась умница! стариков учить вздумала! и что ты понимаешь? и кто тебе сказал? и где ты могла выучиться?
– - Я видела мертвую бабушку. Она была точно…
– - Бабушка! шутка ли, велика птица твоя бабушка! Тс!..
Слова дочери проникли в сердце Ивана Софроныча, как ни мало он, казалось, верил им. Ужас сделался постоянным выражением его лица, и в глазах его, устремленных на Алексея Алексеича, отражалось глубокое недоумение,-- страшный вопрос, разрешения которого боялся сам Иван Софроныч.
Он и дочь, бледная и трепещущая, стояли в прежнем положении, храня глубокое молчание, когда в соседней комнате послышались тихие шаги. По шарканью башмаков можно было догадаться, что они принадлежали женщине. Тихо обернувшись к двери, Иван Софроныч увидел свою жену.
Соскучась по муже и дочери и удивленная долгим их отсутствием, она вздумала сама проведать, что они делают, и явилась, приодевшись предварительно и убрав свою голову. К чести ее должно заметить, что она никогда не показывалась в люди, как сидела дома, но всегда принарядившись, даже с излишней щепетильностью.
– - Тсс!..-- сказал ей Иван Софроныч, положив палец на губы.
Она тихо подошла к нему и спросила:
– - Что у вас тут такое? спит, что ли?
– - Тс!.. спит! -- отвечал Иван Софроныч.-- Его высокоблагородие всё были в жару, а вот успокоились. Теперь, я думаю, скоро очнутся. Надо подождать.
Федосья Васильевна присоединилась к ним и стала всматриваться в больного.
– - Софроныч! -- сказала она.-- Да ты никак с ума сошел? Ведь он просто умер… уж, чай, и похолодел!
Иван Софроныч помертвел.
– - И ты туда же? -- грозно прошептал он.-- Эх, язык, бабий язык! -- Он силился улыбнуться, а между тем холодный пот выступил у него на лбу.-- Недаром говорится: волос долог, да ум короток… Ха-ха! И кто тебя просил сюда!
Пока он говорил, Федосья Васильевна продолжала всматриваться в больного, наконец подошла к нему, пощупала рукой и воскликнула:
– - Ну так и есть: холоднехонек! Ах ты, батюшка, благодетель наш!
И она зарыдала.
– - Прочь! не беспокоить его высокоблагородие! -- страшным голосом закричал Иван Софроныч, бросаясь к постели, чтоб оттащить жену.
– - Батюшка! -- закричала Настя, бросаясь тоже к постели.-- Умер! умер!
Федосья Васильевна, поймав руку мужа, приложила ее к лицу покойника: оно было холодно как лед.
Иван Софроныч мучительно вскрикнул.
В комнате настала прежняя тишина.
Не вдруг, однако ж, поверил Иван Софроныч страшной истине: очнувшись через минуту, он стал всматриваться в покойника, ощупывал его, прислушивался к дыханию,-- принес зеркало, приложил его ко рту больного -- дыхания не было.
Когда наконец не было сомнения в ужасной истине, Иван Софроныч разразился таким воплем, такими рыданиями, что невольно вздрогнули все присутствующие. Долго рыдал Иван Софроныч над своим другом, благодетелем, командиром и однокашником (так называл он покойника, целуя и обливая слезами его холодное лицо). Наконец он очнулся, привстал с постели, и первый предмет, попавшийся ему в глаза, была Настя: потрясенная страшным событием и рыданиями отца, Настя, бледная и дрожащая, стояла на коленях перед образом, где тускло теплилась лампада, и молилась, клала земные поклоны, горько рыдая.
– - Молись,-- сказал Иван Софроныч,-- молись, сиротка! умер такой человек, какого и не будет, сколько ни простоит свет. Царство небесное праведнику!
И сам он упал на колени подле дочери и стал молиться, горькими рыданиями сопровождая земные поклоны.
Все присутствующие тоже молились рыдая.
Даже Федосья Васильевна прослезилась непритворными слезами. Притворные -- было у ней дело обыкновенное.
Глава XXXII
История молодости Ивана Софроныча относится к давнопрошедшему времени.
"Родился я в селе ***, С -- ‹й› губернии, того же уезда. До осьмнадцати лет жил в отцовском доме, пахал землю, помогал отцу в работах. По девятнадцатому году взяли меня в барский двор: парень был я видный и к тому ж грамотный, меня хотели приставить камердинером к старому барину, пообтесавши да пообразовавши. Ну и приставили. Да не прошло полугода, как со стариком приключился паралич,-- умер и всех нас, дворовых, по завещанию, пустил на волю, да еще -- царство ему небесное! -- с награждением. Дали мне, парню молодому, триста рублей денег да всю одежду мою и пустили на все четыре стороны. Дело было глупое, неопытное; я и позамотайся, праздность полюбил, бражничать стал, хмелем зашибаться.