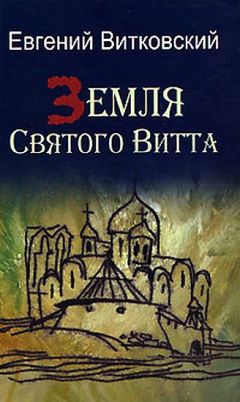Евгений Витковский - Земля святого Витта
Из неведомой еды на столе у графа обнаружил Павлик такое, что сперва принял за своеобразную разновидность змей, наподобие тех, что поглощал усатый светящийся дядя в городке у подножия Палинского Камня. Оказались это не змеи, а, как сказал граф, сердито убирая от мальчика тарелку-селедочницу, речные рифейские миноги, которые и не еда вовсе, а солдатская закуска. Поскольку самого Павлика граф нередко называл "Солдат, солдат, настоящий солдат, будущее нашей державы!" - Павлик не понимал, почему ему эти змеи-миноги не причитаются, и однажды одну потихоньку стащил. Сжевал и проглотил. Потом сильно болел живот, но камердинер объяснил, что это не от миноги, а от уксуса с горчицей. Павлику не понравилось, к миноге он больше не тянулся.
День начинался одинаково: граф трижды сбегал с горы вниз и возвращался обратно, камердинер в это время окатывал Павлика ушатом воды со льдом, взятым с ледника прямо перед азиатским фасадом замка; потом был общий завтрак, потом бесконечные занятия военными искусствами, потом обед и для Павлика - часовой сон (граф прыгал с обрыва именно в это время, а когда не прыгал - сидел в кабинете и пером очередной подвернувшейся птицы сочинял стихи; как однажды проговорился камердинер, мечтой графа было найти немецкую рифму к собственным имени, отчества и фамилии: имя зарифмовать удалось, даже и фамилия с чем-то плохо, но вязалась, а отчество - никак, ни с чем оно в германском наречии не соединялась, но в безнадежность предприятия граф не верил и продолжал осаду этой упрямой крепости). Потом был подъем и час (на самом деле два) иностранного языка, сперва французского, потом немецкого или же взамен обоих двойной час английского. За ужином граф непременно рассказывал что-то вроде сказки, ну, и марш в кровать. А утром все сначала, кроме тех дней, когда что-нибудь случалось - вроде взятия бедного орлана Измаила прямо в воздухе, и кроме тех дней, когда приходили гости из Киммериона: мама и Вера. Раз в месяц, не без труда, медленно взбирался в замок и дедушка Федор Кузьмич. К этому дню камердинер чистил графу парадный мундир, готовил что-нибудь необычное - варил, например, картошку, миноги же, напротив, на стол не подавались, - а граф лично встречал старца у порога замка... и почему-то, завидев Федора Кузьмича, непременно трижды кричал петухом. Потом все немножко закусывали, а следом дедушка уединялся с Павликом и устраивал ему экзамен по языкам. Про немецкий неизменно говорил, что "даже слишком хорошо", французский поправлял, а насчет английского ругался - доходило даже до скандала с призраком адмирала. Призрак занудно ворчал, мол, колониальный жаргон ему противен, но в конце концов разъяснял, чтo именно и как именно нужно говорить, при этом кому и зачем. Вообще Федор Кузьмич вздыхал, что английский мальчику придется доучивать внизу. А когда оно будет, это "внизу"? Времена года сменялись, зарубки, отмечавшие рост на косяке китайской спальни Павлика, ползли вверх, однако же никакого спуска вниз ему не позволялось.
Большим утешением служило обучение езде на лошади, к которому Палинский приступил немедленно после того, ухода Варфоломея. Конюшен у графа было две, в одной стояли низкорослые, мохнатые, послушные кобылки рифейской породы, в другой - два жеребца "личных его сиятельства", арабские полукровки, умевшие все - даже ходить по винтовой лестнице; именно так, поочередно на каждом из жеребцов, граф выезжал на турецкую смотровую площадку и озирал по утрам просторы российские, киммерийские и небесные. После чего уезжал обратно, конюшни, которые, хотя и были вырублены в толще скалы, хорошо проветривались и освещались электричеством. Овес и прочий корм, как и все потребное, поднимал из Триеда грузовой лифт - мрачная, темная коробка, в которую человеку лезть не хотелось. Павлику особенно. А вот конюшни были радостью. Особенно его личная мохнатая трехлетка Артемисия. Гарцевать на ней по замку и перед замком Павлик лихо умел уже к восьми годам. В девять, в порядке подарка ко дню рождения, было ему разрешено перепрыгнуть на Нижний, малый, специально превращенный в открытый манеж зубец Палинского Камня. Погарцевал, прыгнул обратно. Лошадь слушалась Павлика не хуже, чем арабский жеребец графа. Граф одобрительно высказался по поводу прыжка обратно, к замку: "Порода, порода видна!" Чья порода, его или лошади, Павлик не спросил. Не то, чтобы постеснялся: просто понял, что ему этого достаточно: не прямо, но похвалили.
Лошадки, помимо собственных-личных, были у графа местные, рифейской породы - той, про которую ходил упорный слух, что в нее прилита кровь стеллерова быка Лаврентия. Особенность этой породы, помимо низкого роста, непомерно широкого храпа и гривы почти до земли, была та, что на одной лишь растительной диете такая лошадка хирела и погибала: ей, как и сектантам из Триеда, требовалась ежедневно змея-другая, а если не змея, то какое-нибудь пресмыкающееся: хотя бы полгадюки, на худой конец - яйцо черепахи, которые тут пока что не водились, или ящеричий хвост. Камердинер пользовался при кормлении лошадей в основном последним вариантом; у триедских ящериц хвост отламывался по первому прикосновению и был сладким, из-за чего сектантская детвора считала это лакомство примерно тем, чем в прежние времена детвора Внешней Руси числила леденец на палочке или мороженое-эскимо. Хвост у ящерицы отрастал через день или два, был слаще прежнего и отламывался так же легко, так что сектанты, исполненные священного ужаса перед летающим графом, сами клали в грузовой лифт связки ящеричьих хвостов, которыми высокогорные лошадки хрустели, как все лошади остального мира хрустят сахаром. Павлик, что греха таить, тоже хвосты любил, но с того дня, как Артемисия стала его, только его лошадкой, баловство это себе запретил: слишком мало у лошади радостей в жизни, чтоб ее еще и сладкого лишать, тем более, согласно разъяснению графа, иначе все равно придется ее кормить совершенно несладкими и неаппетитными гадюками.
Кормить лошадей гадюками было нехорошо еще и потому, что какие-никакие это были змеи, а все-таки родственницы бесчисленных аспидов, куфий, тик-полончей, кроталов, скиталов и кенхров, запросивших экологического убежища в цокольном этаже замка Палинского. Жирные кенхры потребляли белых мышей, но брали пищу из рук камердинера со слезами: они знали, что в этот самый миг, скорее всего, во владениях Тараха Осьмого люди садятся за стол и чуть ли не живьем пожирают их менее удачливых, не доползших до вершины Палинского камня родичей. И даже хуже: если на ящеричьи хвосты в Триеде выдавался неурожай, то опять же родичей, несмысленных гадюк, приходится отдавать не съедение графским лошадям. Это уж не говоря про ястреба Галла, который на иной диете подох бы. Кенхры полагались на мудрость старшего среди пресмыкающихся Палинского Камня, скитала Гармодия, а тот поступал действительно благоразумно, - двадцать девять дней в месяц, а то и больше, беспробудно спал, демонстрируя интересующимся лишь всецветные переливы своей расписной шкуры.
Черепахи в Киммерии существовали вроде бы только в теории, в приполярных краях они вообще встречаются редко, однако при ближайшем рассмотрении в подзорную трубу можно было рассмотреть, что крышами домов в Триеде служат именно панцири исполинских ископаемых черепах. Триедское слово "чрепие" в значении просто "крыша" иной раз употреблял в разговоре то камердинер, то сам Палинский: если на уроке английского Павлик ненароком употреблял немецкое слово, граф хохотал и восклицал: "Ну, брат, совсем у тебя накосяк чрепие поехало!" Иных черепах, кроме ископаемых "крыш", видел Павлик лишь на картинках в богатейшей библиотеке графа. С давних пор шел слух, что какая-то из галапагосских черепах уже переплыла Тихий океан и от оккупированного еще прежним Китаем Аомыня ползет через азиатские просторы к Уралу; впрочем, пока что героическую гостью только еще с трепетом ожидали, шутка ли: сухопутная черепаха да Тихий океан переплыла! Павлик проявлял особый интерес: он хотел поездить на черепахе. Однако и на лошади тоже было хорошо.
- Помилуй Бох-х-х!.. - разносилось среди сквозняков дворца. Граф обходил комнаты, крестился на иконы, в некоторых местах крестил и окна, те, вид из которых казался ему неприятным или подозрительным. В приемной зале на восьмом этаже, "ломберной", он крестил каждое окно; объяснить - почему одно окно он крестит, а другое нет, граф не мог, лишь бормотал изредка, что у него "такое предчувствие". В ломберной, впрочем, было от чего перекреститься православному человеку: здесь граф, пристрастившийся из всех карточных игр к преферансу "с тех самых пор, как его придумали", затевал иной раз роспись пульки на целую ночь. Играл он когда втроем, когда вчетвером, лишь изредка приглашая - и только четвертым - камердинера. Остальными партнерами графа были призраки. Из них, впрочем, граф приглашения удостаивал тоже далеко не всех. Белые дамы, к примеру, не приглашались: поскольку были они дамами; не сиживал за карточным столом и призрак адмирала, поскольку был настроен антифранцузски, и сколько граф ни объяснял ему, что игра эта исконно русская, лишь по происхождению - австрийская, призрак от высокой чести отказывался и прятался в камень. Граф полгода или год приглашения не повторял, а потом сцена с приглашением адмирала в ломберную разыгрывалась вновь; военных, несмотря на то, что давно призраки, граф уважал как коллег: откуда знать, кто завтра окажется твоим союзником, а кто врагом?