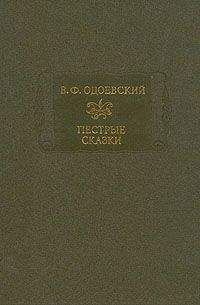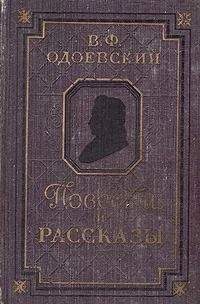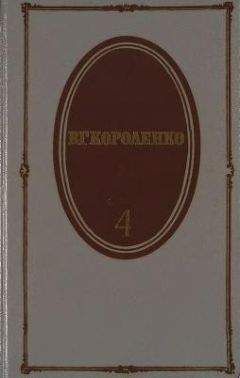Владимир Одоевский - Записки для моего праправнука (сборник)
Однажды на бале мне встретилась женщина, которая заставила меня остановиться. Мне показалось, что я ее уже где-то видел; ее лицо было мне так знакомо, что я едва ей не поклонился. Я спросил о ее имени. Это была графиня Элиза Б. Это имя было мне совершенно неизвестно. Вскоре я узнал, что она с самого детства жила в Одессе и, следственно, никаким образом не могла быть в числе моих знакомых.
Я заметил, что и графиня смотрела на меня с неменьшим удивлением; когда мы больше сблизились, она призналась мне, что и мое лицо ей показалось с первого раза знакомым. Этот странный случай подал, разумеется, повод к разным разговорам и предположениям; он невольно завлек нас в ту метафизику сердца, которая бывает так опасна с хорошенькой женщиной… Эта странная метафизика, составленная из парадоксов, анекдотов, острот, философских мечтаний, имеет отчасти характер обыкновенной школьной метафизики, то есть отлучает вас от света, уединяет вас в особый мир, но не одного, а вместе с прекрасной собеседницей; вы несете всякий вздор, а вас уверяют, что вас поняли; с обеих сторон зарождается и поддерживается гордость, а гордость есть чаша, в которую влиты все грехи человеческие: она блестит, звенит, манит наш взор своею чудною резьбою, и уста ваши невольно прикасаются к обольстительному напитку.
Мы обменялись с графинею этим роковым сосудом; она любовалась во мне игривостью своего ума, своею красотою, пылким воображением, изяществом своего сердца; я любовался в ней силою моего характера, смелостью моих мыслей, моею начитанностию, моими житейскими успехами.
Словом, мы уже сделались необходимы друг другу, а еще один из нас едва знал, как зовут другого, какое его положение в свете.
Правда, мы были еще невинны во всех смыслах; никогда еще слово любви не произносилось между нами. Это слово было смешно гордому человеку XIX века; оно давно им было разложено, разобрано по частям, каждая часть оценена, взвешена и выброшена за окошко, как вещь, несогласная с нашим нравственным комфортом; но я заговаривался с графинею в свете; но я засиживался у ней по вечерам; но ее рука долго, слишком долго оставалась в моей при прощании; но когда она с улыбкою и с бледнеющим лицом сказала мне однажды: «Мой муж на днях должен возвратиться… вы, верно, сойдетесь с ним» — я, человек, прошедший чрез все мытарства жизни, не нашелся что отвечать, даже не мог вспомнить ни одной пошлой фразы и, как романтический любовник, вырвал свою руку, побежал, бросился в карету…
Нам обоим до сей минуты не приходило в голову вспомнить, что у графини есть муж!
Теперь дело было иное. Я был в положении человека, который только что выскочил из очарованного круга, где глазам его представлялись разные фантасмагорические видения, заставляли его забывать о жизни… Он краснеет, досадуя на самого себя, зачем он был в очаровании… Теперь задача представлялась мне двойною: мне оставалось смотреть на это известие равнодушно и, пользуясь правами света, продолжать с графинею мое платоническое супружество; или, призвав на помощь донкихотство, презреть все условия, все приличия, все удобства жизни и действовать на правах отчаянного любовника. В первый раз в жизни я был в нерешимости; я почти не спал целую ночь, не спал — и от страстей, волновавшихся в моем сердце, и от досады на себя за это волнение; до сей минуты я так был уверен, что я уже неспособен к подобному ребячеству: словом, я чувствовал в себе присутствие нескольких независимых существ, которые боролись сильно и не могли победить одно другое.
Рано поутру ко мне принесли записку от графини; она состояла из немногих слов: «Именем Бога, будьте у меня сегодня, непременно сегодня: мне необходимо вас видеть».
Слова: сегодня и необходимо были подчеркнуты
Мы поняли друг друга; при свидании с графинею мы быстро перешли тот промежуток, отделявший нас от прямого выражения нашей тайны, которую скрывали мы от самих себя. Первый акт житейской комедии, обыкновенно столь скучный и столь привлекательный, был уже сыгран; оставалась катастрофа — и развязка.
Мы долго не могли выговорить слова, молча смотрели друг на друга и с жестокосердием предоставляли друг другу право начать разговор.
Наконец она, как женщина, как существо более доброе, сказала мне тихим, но твердым голосом:
— Я звала вас проститься… наше знакомство должно кончиться — разумеется, для нас, — прибавила она после некоторого молчания, — но не для света — вы меня понимаете… Наше знакомство! — повторила она раздирающим голосом и с рыданием бросилась в кресла.
Я кинулся к ней, схватил ее за руку. Это движение привело ее в чувство.
— Остановитесь, — сказала она, — я уверена, что вы не захотите воспользоваться минутою слабости… Я уверена, что если б я и забылась, то вы бы первый привели меня в память… Но я и сама не забуду, что я жена, мать.
Лицо ее просияло невыразимым благородством.
Я стоял недвижно пред нею… Скорбь, какой никогда еще не переносило мое сердце, разрывала меня; я чувствовал, что кровь горячим ключом переливалась в моих жилах, частые удары пульса звенели в висках и оглушали меня… Я призывал на помощь все усилия разума, всю опытность, приобретенную холодными расчетами долгой жизни… Но рассудок представлял мне смутно лишь черные софизмы преступления, мысли гнева и крови: они багровою пеленою закрывали от меня все другие чувства, мысли, надежды… В эту минуту дикарь, распаленный зверским побуждением, бушевал под наружностию образованного, утонченного, расчетливого европейца
Я не знаю, чем бы кончилось это состояние, как вдруг дверь растворилась, и человек подал письмо графине
— От графа с нарочным.
Графиня с беспокойством развернула пакет, прочла несколько строк, — руки ее затряслись, она побледнела.
Человек вышел. Графиня подала мне письмо. Оно было от незнакомого человека, который уведомлял графиню, что муж ее опасно занемог на дороге в Москву, принужден был остановиться на постоялом дворе, не может писать сам и хочет видеть графиню.
Я взглянул на нее; в голове моей сверкнула неясная мысль, отразилась в моих взорах… Она поняла эту мысль, закрыла глаза рукою, как бы для того, чтобы не видеть ее, и быстро бросилась к колокольчику.
— Почтовых лошадей! — сказала она с твердостию вошедшему человеку. — Просить ко мне скорее доктора Бина.
— Вы едете? — сказал я.
— Сию минуту.
— Я за вами.
— Невозможно!
— Все знают, что уж я давно собираюсь в тверскую деревню.
— По крайней мере, через день после меня.
— Согласен… но случай заставит меня остановиться с вами на одной станции, а доктор Бин мне друг с моего детства.
— Увидим, — сказала графиня, — но теперь прощайте.
Мы расстались.
Я поспешно возвратился домой, привел в порядок мои дела, рассчитал, когда мне выехать, чтобы остановиться на станции, велел своим людям говорить, что я уже дня четыре как уехал в деревню; это было вероятно, ибо в последнее время меня мало видали в свете. Через тридцать часов я уже был на большой дороге, и скоро моя коляска остановилась у ворот постоялого дома, где решалась моя участь.
Я не успел войти, как по общей тревоге угадал, что все уже кончилось.
— Граф умер, — отвечали на мои вопросы, и эти слова дико и радостно отдавались в моем слухе.
В такую минуту явиться к графине, предложить ей мои услуги было бы делом обыкновенным для всякого проезжающего, не только знакомого. Разумеется, я поспешил воспользоваться этою обязанностью.
Почти в дверях встретил я Бина, который бросился обнимать меня.
— Что здесь такое? — спросил я.
— Да что! — отвечал он с своею простодушною улыбкою, — нервическая горячка… Запустил, думал доехать в Москву — да где! Она не свой брат, шутить не любит; я приехал — уж поздно было; тут что ни делай — мертвого не оживишь
Я бросился обнимать доктора — не знаю, почему, но, кажется, за его последние слова. Хорошо, — что мой добрый Иван Иванович не взял на себя труда разыскивать причины такой необыкновенной нежности.
— Ее, бедную, жаль! — продолжал он.
— Кого? — сказал я, затрепетав всем телом
— Да графиню.
— Разве она здесь? — проговорил я притворно и поспешно прибавил, — что с ней?
— Да вот уж три дня не спала и не ела — Можно к ней?
— Нет, теперь она, слава Богу, заснула, пусть себе успокоится до выноса. Здесь, вишь, хозяева просят, чтобы поскорее вынесли в церковь, ради проезжих.
Делать было нечего. Я скрыл свое движение, спросил себе комнату, а потом принялся помогать Ивану Ивановичу во всех нужных распоряжениях. Добрый старик не мог мною нахвалиться. «Вот добрый человек, — говорил он, — иной бы взял да уехал; еще хорошо, что ты случился, я бы без тебя пропал; правда, нам, медикам нечего греха таить, — прибавил он с улыбкою, — случается отправлять на тот свет, но хоронить еще мне ни раза не удавалось»