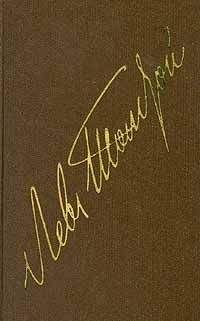Лев Толстой - Том 3. Произведения 1857-1863 гг
Три месяца прошло с тех пор, как я в первый раз увидал казачку Марьяну. Понятия и предрассудки того мира, из которого я вышел, еще были свежи во мне. Я тогда не верил, что могу полюбить эту женщину. Я любовался ею, как красотою гор и неба, и не мог не любоваться ею, потому что она прекрасна, как и они. Потом я почувствовал, что созерцание этой красоты сделалось необходимостию в моей жизни, и я стал спрашивать себя: не люблю ли я ее? Но ничего похожего на то, как я воображал это чувство, я не нашел в себе. Это было чувство, не похожее ни на тоску одиночества и желание супружества, ни на платоническую, ни еще менее на плотскую любовь, которые я испытывал. Мне нужно было видеть, слышать ее, знать, что она близко, и я бывал не то что счастлив, а спокоен. После вечеринки, на которой я был вместе с нею и прикоснулся к ней, я почувствовал, что между мной и этою женщиной существует неразрывная, хотя и не признанная связь, против которой нельзя бороться. Но я еще боролся; я говорил себе: неужели можно любить женщину, которая никогда не поймет задушевных интересов моей жизни? Неужели можно любить женщину за одну красоту, любить женщину-статую? — спрашивал я себя, а уже любил ее, хотя еще не верил своему чувству. После вечеринки, на которой я в первый раз говорил с ней, наши отношения изменились. Прежде она была для меня чуждым, но величавым предметом внешней природы; после вечеринки она стала для меня человеком. Я стал встречать ее, говорить с нею, ходить иногда на работы к ее отцу и по целым вечерам просиживать у них. И в этих близких сношениях она осталась в моих глазах все столь же чистою, неприступною и величавою. Она на все и всегда отвечала одинаково спокойно, гордо и весело-равнодушно. Иногда она бывала ласкова, но большею частью каждый взгляд, каждое слово, каждое движение ее выражали это равнодушие, не презрительное, но подавляющее и чарующее. Каждый день с притворною улыбкой на губах я старался подделаться под что-то и с мукой страсти и желаний в сердце шуточно заговаривал с ней. Она видела, что я притворяюсь: но прямо, весело и просто смотрела на меня. Мне стало невыносимо это положение. Я хотел не лгать перед ней и хотел сказать все, что я думаю, что я чувствую. Я был особенно раздражен; это было в садах. Я стал говорить ей о своей любви такими словами, которые мне стыдно вспомнить. Стыдно вспомнить потому, что я не должен был сметь говорить ей этого, потому что она неизмеримо выше стояла этих слов и того чувства, которое я хотел ими выразить. Я замолчал, и с этого дня мое положение сделалось невыносимо. Я не хотел унижаться, оставаясь в прежних шуточных отношениях, и чувствовал, что я не дорос до прямых и простых отношений к ней. Я с отчаянием спрашивал себя: что же мне делать? В нелепых мечтах я воображал ее то своею любовницей, то своею женой и с отвращением отталкивал и ту и другую мысль. Сделать ее девкой было бы ужасно. Это было бы убийство. Сделать ее барыней, женою Дмитрия Андреевича Оленина, как одну из здешних казачек, на которой женился наш офицер, было бы еще хуже. Вот ежели бы я мог сделаться казаком, Лукашкой, красть табуны, напиваться чихирю, наливаться песнями, убивать людей и пьяным влезать к ней в окно на ночку, без мысли о том, кто я? и зачем я? Тогда бы другое дело, тогда бы мы могли понять друг друга, тогда бы я мог быть счастлив. Я пробовал отдаваться этой жизни и еще сильнее чувствовал свою слабость, свою изломанность. Я не мог забыть себя и своего сложного, негармонического, уродливого прошедшего. И мое будущее представляется мне еще безнадежнее. Каждый день передо мною далекие снежные горы и эта величавая, счастливая женщина. И не для меня единственно возможное на свете счастье, не для меня эта женщина! Самое ужасное и самое сладкое в моем положении то, что я чувствую, что я понимаю ее, а она никогда не поймет меня. Она не поймет не потому, что она ниже меня, напротив, она не должна понимать меня. Она счастлива; она, как природа, ровна, спокойна и сама в себе. А я, исковерканное, слабое существо, хочу, чтоб она поняла мое уродство и мои мучения. Ночи я не спал и без всякой цели проводил под ее окнами и не отдавал отчета себе в том, что со мною было. Восемнадцатого числа наша рота ходила в набег. Я три дня провел вне станицы. Мне было грустно и все равно. В отряде песни, карты, попойки, толки о наградах мне были противнее обыкновенного. Я нынче вернулся домой, увидал ее, свою хату, дядю Ерошку, снеговые горы с своего крылечка, и такое сильное новое чувство радости охватило меня, что я все понял. Я люблю эту женщину настоящею любовью, в первый и единственный раз моей жизни. Я знаю, что со мной. Я не боюсь унизиться своим чувством, не стыжусь своей любви, я горд ею. Я не виноват, что я полюбил. Это сделалось против моей воли. Я спасался от своей любви в самоотвержении, я выдумывал себе радость в любви казака Лукашки с Марьянкой и только раздражал свою любовь и ревность. Это не идеальная, так называемая возвышенная любовь, которую я испытывал прежде; не то чувство влечения, в котором любуешься на свою любовь, чувствуешь в себе источник своего чувства и все делаешь сам. Я испытывал и это. Это еще меньше желание наслаждения, это что-то другое. Может быть, я в ней люблю природу, олицетворение всего прекрасного природы; но я не имею своей воли, а чрез меня любит ее какая-то стихийная сила, весь мир божий, вся природа вдавливает любовь эту в мою душу и говорит: люби. Я люблю ее не умом, не воображением, а всем существом моим. Любя ее, я чувствую себя нераздельною частью всего счастливого божьего мира. Я писал прежде о своих новых убеждениях, которые вынес из своей одинокой жизни; но никто не может знать, каким трудом выработались они во мне, с какою радостью сознал я их и увидал новый, открытый путь в жизни. Дороже этих убеждений ничего во мне не было… Ну… пришла любовь, и их нет теперь, нет и сожаления о них. Даже понять, что я мог дорожить таким односторонним, холодным, умственным настроением, для меня трудно. Пришла красота и в прах рассеяла всю египетскую жизненную внутреннюю работу. И сожаления нет о исчезнувшем! Самоотвержение — все это вздор, дичь. Это все гордость, убежище от заслуженного несчастия, спасение от зависти к чужому счастию. Жить для других, делать добро! Зачем? когда в душе моей одна любовь к себе и одно желание — любить ее и жить с нею, ее жизнию. Не для других, не для Лукашки я теперь желаю счастия. Я не люблю теперь этих других. Прежде я бы сказал себе, что это дурно. Я бы мучился вопросами: что будет с ней, со мной, с Лукашкой? Теперь мне все равно. Я живу не сам по себе, но есть что-то сильней меня, руководящее мною. Я мучаюсь, но прежде я был мертв, а теперь только я живу. Нынче я пойду к ним и все скажу ей».
XXXIV
Написав это письмо, Оленин поздно вечером пошел к хозяевам. Старуха сидела на лавке за печью и сучила коконы. Марьяна с непокрытыми волосами шила у свечи. Увидав Оленина, она вскочила, взяла платок и подошла к печи.
— Что ж, посиди с нами, Марьянушка, — сказала мать.
— Не, я простоголовая. — И она вскочила на печь.
Оленину видно было только ее колено и стройная спущенная нога. Он угощал старуху чаем. Старуха угостила гостя каймаком, за которым посылала Марьяну. Но, поставив тарелку на стол, Марьяна опять вскочила напечь, и Оленин чувствовал только ее глаза. Они разговорились о хозяйстве. Бабука Улита расходилась и пришла в восторг гостеприимства. Она принесла Оленину моченого винограду, лепешку с виноградом, лучшего вина и с тем особенным, простонародным, грубым и гордым гостеприимством, которое бывает только у людей, физическими трудами добывающих свой хлеб, принялась угощать Оленина. Старуха, которая сначала так поразила Оленина своею грубостью, теперь часто трогала его своею простою нежностью в отношении к дочери.
— Да что бога гневить, батюшка! Все у нас есть, слава богу, и чихирю нажали, и насолили, и продадим бочки три винограду, и пить останется. Ты уходить-то погоди. Гулять с тобой будем на свадьбе.
— А когда свадьба? — спросил Оленин, чувствуя, как вся кровь вдруг хлынула ему к лицу и сердце неровно и мучительно забилось.
За печью зашевелилось, и послышалось щелканье семечка.
— Да что, надо бы на той неделе сыграть. Мы готовы, — отвечала старуха просто, спокойно, как будто Оленина не было и нет на свете. — Я все для Марьянушки собрала и припасла. Мы хорошо отдадим. Да вот немного не ладно: Лукашка-то наш что-то уж загулял очень. Вовсе загулял! Шалит! Намедни приезжал казак из сотни, сказывал, он в Ногаи ездил.
— Как бы не попался, — сказал Оленин.
— И я говорю: ты, Лукаша, не шали! Ну, молодой человек, известно, куражится. Да ведь на все время есть. Ну, отбил, украл, абрека убил, молодец! Ну и смирно бы пожил. А то уж вовсе скверно.
— Да, я его раза два видел в отряде, он все гуляет. Еще лошадь продал, — сказал Оленин и оглянулся на печь.
Большие черные глаза блестели на него строго и недружелюбно. Ему стало совестно за то, что он сказал.