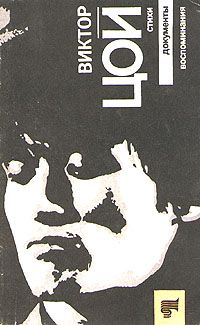Николай Брешко-Брешковский - Ремесло сатаны
Забугина погасла вся. Господи, опять испытания! Какие же еще новые муки ждут ее?
– Мы не будем мешать вам, десять минут в вашем распоряжении, – предложил «ассириец», – господин Шписс, пойдем.
– Пришлите мне Труду, – вырвалось чуть слышно у Забугиной.
Явилась Труда, заплаканная, но какая-то лучистая вся.
– Труда, меня увозят.
– Кто вас увосит, балисня?
– Этот господин, который был здесь со Шписсом, с черной бородой.
– Этот! – всплеснула руками Труда, – ах, он солт! Ах, он?.. Босе, если бы я снала, я бы…
– Если бы вы знали?
– Нисего, балисня, нисего, я так…
Лучистости уже нет и в помине. Труда стояла мрачная, вся в покаянном раздумье.
С заоблачных высей – прямо на землю! Для кого она берегла себя, в чьи объятия бросилась, властно бунтуемая весенними зовами? Этот красавец заодно со всей шайкой Шписса, Бредериха и всех этих подлых вацешей.
– Прощайте, Труда…
– Плосайте, балисня, мосет бить, есе встресимся… так хосу слусить у вас!
– Дал бы Бог… Сердечно рада была б. Я никогда не забуду вашего отношения, милая Труда… Хотя вряд ли… эти люди замучают меня… Чувствую, не вынести мне всех этих пыток…
Еще поцелуй. Слезы обеих девушек, – каждая по-своему одиноких, – смешались.
Потемневшим взглядом провожала Труда убегавший в перспективу аллеи автомобиль. Вера, вся в тумане слез, последний раз махнула платком. Автомобиль, скрывшись за поворотом, вынесся на шоссе.
Сидевший рядом с Верой «ассириец» заговорил:
– Поздравляю вас, Вера Клавдиевна!
Она не слышала.
Он повторил громче: Поздравляю вас!
– С чем? – откликнулась вспугнутая Вера. – Вы издеваетесь надо мной? Какая низость! И вы заодно с ними, и вы один из моих тюремщиков!
– Полноте, – усмехнулся он, – я не тюремщик ваш, а скорей ангел-хранитель.
– Да? – с горечью вырвалось у нее. – Куда же, в какую новую тюрьму вы меня везете, мой «ангел-хранитель». Куда?
– Навстречу тому, что самое дорогое для человека… Мы на пути к свободе, вашей свободе…
– Как вам не стыдно глумиться! Я и так истерзана вся, живого места нет… а вы…
– Напрасно язвите меня, Вера Клавдиевна… Не глумлюсь, а, наоборот, всецело сочувствую вам и всему пережитому… я сброшу маску… Слушайте, я приехал спасти вас… знаю все, знаю, как и почему вы сюда попали. Знаю какие нити держите вы в своих руках. Все знаю! Слушайте внимательно… Приехал сюда я под личиной агента Юнгшиллера, того самого Юнгшиллера, на вилле которого вы были с завязанными глазами в ночь похищения… Приехал, чтобы вырвать вас из этих тисков.
– Это правда? Вы не мистифицируете меня? Ради Бога, простите, я вам верю, но… я так исстрадалась, не могу отделаться, от сомнений…
– Вера Клавдиевна, большим негодяем надо быть для подобной мистификации! Нам, – я говорю нам, потому что действует целая группа, – нам необходимо спасти вас… Во-первых, из чувства человечности, а во-вторых, как я уже сказал, вы держите в своих руках нити запутанного клубка, разматыванием которого мы уже занялись. Что-то прямо чудовищное, кошмар! Но до поры до времени необходимо соблюдать самую чрезвычайную осторожность. Конечно, ваше новое бегство должно вызвать переполох во всей этой шпионской организации проклятых немцев! Они почувствуют удар, но откуда этот удар направлен, им невдогад будет, сначала, по крайней мере. И вы пока, Вера Клавдиевна, никому ни слова. Никому!
Вера слушала, придавленная, ошеломленная, еще не смея радоваться, ликовать, до того внезапен, стремителен был переход от мрака к свету, от уныния к манящим солнечным далям.
– Мы возвращаемся в Петербург?
– За кого вы нас принимаете? За младенцев, что ли? Это было бы непростительной бестактностью… Наоборот, мы должны исчезнуть до зубов, уже наверняка схватим этих господ мертвой хваткой за горло…
Давно уже остался позади Лаприкен. Автомобиль мчался по ровному шоссе, мчался сквозь вечерние сумерки, и свежий ветер бил в лицо путникам.
– Он все слышал. Это ничего? – по-французски молвила девушка по адресу шофера.
– Это свой человек. Преданность его и нам и нашему делу не подлежит никакому сомнению.
– А нас не может хватиться Шписс?
– Когда он хватится, будет поздно. Разоблачить нас могут дня через два-три, а через два-три дня мы будем далеко… В действующей армии…
– В действующей армии?
– Да, после всего, что вам довелось пережить, я думаю, самой лучшей наградой для вас была бы встреча с Дмитрием Владимировичем Загорским. И вот, с вашего позволения, в ту самую дивизию, где он находится, мы и держим наш путь. Смею думать, что против такого маршрута вы ничего не имеете?
– Я не могу… дайте мне вашу руку, все плывет, кружится голова, еще немного… и разорвется сердце от счастья. Неужели туда, к нему? Ведь он, Дима, не знает, жива ли я? Скажите, что это – сон, сказка, мираж?
– Это не сон, не мираж и не сказка, Вера Клавдиевна. Это самая что ни на есть реальная действительность. Но что с вами? Дурно?
Вера с опущенной головой и закрытыми глазами откинулась в легком обмороке.
Не выдержала вдруг так нежданно-негаданно нахлынувшей свободы, вместе с восторгами близкой встречи с дорогим человеком нахлынувшей…
Часть третья
1. В штабе дивизии
В канцелярии штаба дивизии горели лампы с молочными абажурами. У этих ламп работали, склонившись над бумагами, офицеры, зауряд-чиновники. Писари выстукивали на машинках.
Строевым офицерам, проходившим в этот весенний вечер мимо штаба, казалось нудной и скучной эта в четырех стенах закупоренная канцелярщина… Кругом такая благодать…
В садах поют соловьи. Сколько мощи и сильной, свежей страсти в этих переливах, властных весенних зовах, и птицу и человека волнующих одинаково. Грудной смех у белого крылечка. Особенный девичий смех чернобровых галичанок. Глаза, большие, как темные звезды, – светятся. Блестят в улыбке свежего рта белые зубы. Подходит офицер в запыленных сапогах. Голоса как-то по-вечернему значительно звучат.
Загорский жил в двух шагах от штаба. Уютный крохотный домик под черепичной крышей. Жил вторую неделю, с первого, дня как только штаб местопребыванием своим выбрал это местечко, пересеченное из конца в конец шоссейной дорогою, с двумя шлагбаумами на выездах. Эти шлагбаумы, прежде черно-желтые, перекрашены в русские цвета.
Домик под черепичной крышею, – собственность австрийского жандарма с лихо подкрученными усами и в твердом «цесарском» головном уборе. Портрет жандарма, пана Войцеховича, Загорский видел каждый день. Маленькая фотография, обрамленная скромно и дешево ракушками, висела в маленькой, – здесь все было такое маленькое, – гостиной. Эту гостиную отвела Загорскому пани Войцехович, «соломенная вдова», красивая блондинка с грудью, вздрагивающей на ходу под просторной домашней блузкою.
Муж ушел в глубь страны вместе с полицией и чиновниками, а жена осталась.
И странным Загорскому чудилось, – каким залетным, непрощеным гостем очутился он здесь. Вынесли диван, помнивший другие безмятежные времена, и вместо него водворилась походная кровать в этой мещанской гостиной, с вязаными салфеточками, олеографиями в багетных рамках и грошевыми безделушками.
Думал ли когда-нибудь Загорский, что со стены будет смотреть на него благопристойного вида императорско-королевский жандарм в закрученных усах? Мало ли кто чего не думал? Война все перевернула вверх дном, все спутала.
Загорский, поужинав в штабе – ранний ужин или поздний обед, – возвращался к себе. В голове как-то легко и приятно, без тяжести, другим винам свойственной, бродило венгерское. Помещик князь Сапега прислал несколько бутылок этого благородного, густого, как масло, напитка генералу Столешникову.
Загорскому показалось душно в гостиной. Распахнул маленькое квадратное окно, и все-таки было душно.
Не проходило дня, чтоб не вспоминал он Веры. Но его воспоминания были столь же мучительны, сколь и бесплодны. Он думал о ней, как думают о близкой и дорогой покойнице. Он был уверен, что ее нет в живых, так как нельзя же исчезнуть, не оставив никаких следов.
Он знал по газетам, что с войною участились в больших городах кражи, убийства… Быть может, и бедная Вера стала жертвою этих кровавых гастролеров, наводнивших собою и преступлениями своими Москву, Петроград, Киев, Одессу.
Ему нечем дышать. Он пойдет в поле и будет долго бродить один, любуясь разноцветными вспышками австрийских ракет.
Надел фуражку, пристегнул шашку.
Тихо открылась дверь… на пороге знакомая фигура пани Войцехович в широкой блузке, темно-синей, в белых цветочках.
– Може, пану ротмистру, – она упорно звала его ротмистром, невзирая на две скромные унтер-офицерские нашивки, – запалить лямпу, юж цемно?
– Спасибо, пани Войцехович, я ухожу.
– На спацер?
– Да, хочу пройтись немного.
– А… – это «а» вышло чисто по-женски, неопределенно и мило.