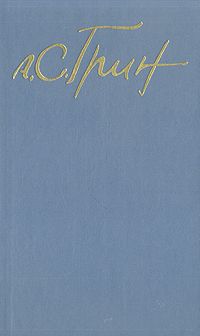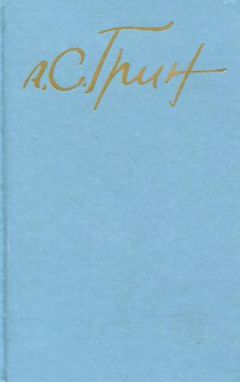Александр Грин - Том 3. Рассказы 1917-1930. Стихотворения
— Да, — Стиль улыбался. — Как видите, я помнил ваш адрес. Я записал его. Я пришел сказать, что был в Сердце Пустыни и получил то же, что Пелегрин, даже больше, так как я живу там.
— Я виноват, — сухо сказал Консейль, — но мои слова — мое дело, и я отвечаю за них. Я к вашим услугам, Стиль.
Смеясь, Стиль взял его бесстрастную руку, поднял ее и хлопнул по ней.
— Да нет же, — вскричал он, — не то. Вы не поняли. Я сделал Сердце Пустыни. Я! Я не нашел его, так как его там, конечно, не было, и понял, что вы шутили. Но шутка была красива. О чем-то таком, бывало, мечтал и я. Да, я всегда любил открытия, трогающие сердце подобно хорошей песне. Меня называли чудаком — все равно. Признаюсь, я смертельно позавидовал Пелегрину, а потому отправился один, чтобы быть в сходном с ним положении. Да, месяц пути показал мне, что этот лес. Голод… и жажда… один; десять дней лихорадки. Палатки у меня не было. Огонь костра казался мне цветным, как радуга. Из леса выходили белые лошади. Пришел умерший брат и сидел, смотря на меня; он все шептал, звал куда-то. Я глотал хину и пил. Все это задержало, конечно. Змея укусила руку; как взорвало меня — смерть. Я взял себя в руки, прислушиваясь, что скажет тело. Тогда, как собаку, потянуло меня к какой-то траве, и я ел ее; так я спасся, но изошел потом и спал. Везло, так сказать. Все было, как во сне: звери, усталость, голод и тишина; и я убивал зверей. Но не было ничего на том месте, о котором говорилось тогда; я исследовал все плато, спускающееся к маленькому притоку в том месте, где трамплин расширяется. Конечно, все стало ясно мне. Но там подлинная красота, — есть вещи, о которые слова бьются, как град о стекло, — только звенит…
— Дальше, — тихо сказал Консейль.
— Нужно было, что бы он был там, — кротко продолжал Стиль. — Поэтому я спустился на плоте к форту и заказал со станционером нужное количество людей, а также все материалы, и сделал, как было в вашем рассказе и как мне понравилось. Семь домов. На это ушел год. Затем я пересмотрел тысячи людей, тысячи сердец, разъезжая и разыскивая по многим местам. Конечно, я не мог не найти, раз есть такой я, — это понятно. Так вот, поедемте взглянуть, видимо, у вас дар художественного воображения, и мне хотелось бы знать, так ли вы представляли.
Он выложил все это с ужасающей простотой мальчика, рассказывающего из всемирной истории.
Лицо Консейля порозовело. Давно забытая музыка прозвучала в его душе, и он вышагал неожиданное волнение по диагонали зала, потом остановился, как вкопанный.
— Вы — турбина, — сдавленно сказал он, — вы знаете, что вы — турбина. Это не оскорбление.
— Когда ясно видишь что-нибудь… — начал Стиль.
— Я долго спал, — перебил его сурово Консейль. — Значит… Но как похоже это на грезу! Быть может, надо еще жить, а?
— Советую, — сказал Стиль.
— Но его не было. Не было.
— Был. — Стиль поднял голову без цели произвести впечатление, но от этого жеста оно кинулось и загремело во всех углах. — Он был. Потому, что я его нес в сердце своем.
Из этой встречи и из беседы этой вытекло заключение, сильно напоминающее сухой бред изысканного ума в Кордон-Брюн. Два человека, с глазами, полными оставленного сзади громадного глухого пространства, уперлись в бревенчатую стену, скрытую чащей. Вечерний луч встретил их, и с балкона над природной оранжереей сада прозвучал тихо напевающий голос женщины.
Стиль улыбнулся, и Консейль понял его улыбку.
Лошадиная голова
Он умер от злости…
ШатобрианПриехав на разработку Пульта, Фицрой застал некоторых лиц в трауре. Молоденькая жена Добба Конхита, ее мать и «местный житель», как он рекомендовал себя сам, бродячий Диоген этих мест, охотник Энох Твиль, изменились, как бывает после болезни. Они разучились улыбаться и говорить громко.
Багровый Пульт, сидя в душной палатке, продолжал пить, но поверх грязного полотняного рукава его блузы был нашит креп. Сквозь пьянство светилось удручение. «Вы знаете, что произошло здесь?! — встретил он Фицроя, поддевая циркулем кусок копченого языка: — Добб упал в пропасть».
Казалось, он продолжает разговор, начавшийся только что. Беспорядок временного жилища Пульта ничем не отличался от состояния, в каком покинул палатку Фицрой одиннадцать дней назад; среди чертежей, свесившихся со стола завитками старой виньетки, стояла та же бутылка малинового стекла и та же алюминиевая тарелка, с единственной разницей, что тогда на ней были остывшие макароны. Смотря на нее, Фицрой поймал мысль «Хочу ли, чтобы те макароны были теперь?» Это равнялось веселому и живому Доббу. Но он еще не разобрался в себе и почему-то откладывал разбираться.
Перед тем, как заглянуть в остановившееся лицо вдовы, Фицрой знал уже все от служащих. «Как громом поразило меня», — сказал он Пульту, — солгал и знал, что солгал. «Да, подумайте! — закричал Пульт, — кроме того, что жалко, — Добб был моей правой рукой».
— Прекрасный, энергичный работник! — с жаром солгал Фицрой еще раз и стал противен себе. — «И не все ли равно теперь, — подумал он, — не я же столкнул его. Я только хотел, чтобы он умер. Но мое право думать, что я хочу». — И он сказал почти правду: — Добб умер. Смерть эта ужасна. Но я устал думать о ней.
— Как?! — переспросил Пульт. — Выпейте, вы что-то путаете, это прояснит ваши мозги.
— Вы знаете, что может случиться при местной жаре от чрезмерного употребления спирта?
— Да, жила в мозгу. А что?
— Мокрое полотенце, — сурово ответил Фицрой, — купанье и молоко.
Пульт вытаращил глаза, прыснул и расхохотался. Все затряслось под его локтем.
— Дикий, безобразный шутник! — сказал он, вытирая усы кистью. — Я пью, но… Мы живем раз. Вы отправитесь на А31. Хина и лекарь там.
Фицрой опустил глаза. Перед ним встала Конхита прежних дней. Он не мог уйти от нее и от еще чего-то, принявшего неопределенную форму Лошадиной Головы.
— Только три дня, Пульт, — сдержанно заговорил он. — В конце концов при вашей ужасной манере дробить горы самому, почти не сходя с места.
— Впрочем, — рассеянно перебил Пульт, — побудьте пока с Доббами. Им очень тяжело.
— И мне тоже, — сказал, выходя, Фицрой. Теперь он не лгал. Он не лгал и себе, когда, ведя в поводу лошадь, особенным, верхним взглядом рассматривал строго и грустно обширную долину с насыпями карьеров, столбами шахт и линиями канав. Работы, начатые по оригинальному плану Пульта одиннадцать дней назад, вызвали бы у него привычную мысль о могуществе человеческого ума; теперь эти следы стали на диком пейзаже казались царапинами, сделанными тупым ножом по дубовой доске. Он заметил также, что не хочет есть, хотя поел лишь рано утром. Жар солнечных лучей раздражал его, как прикосновение колючего и липкого меха.
Он правильно сцепил мысли, надеясь вызвать наконец чувства мести и торжества. «Добб умер, так поступил бы я с ним, если бы не боялся суда. И я смотрел бы сверху, как исчезает с криком в пустоте это бодрое, любимое тело. Я все равно что видел. Вот мое черное счастье; его цвет будет носить Конхита. Я зол, зол, зол; его смерть сладка».
Слова эти, эти мысли мешались с кроткими словами любви. Он не понимал, как ласка, которой было полно его существо, и светлая грусть о недоступной душе, и мольба к ней — могут вместить зло. Он думал и не испытывал торжества.
IIВойдя в свое помещение, Фицрой понял, что среди этой полупоходной обстановки, оставшейся совершенно нетронутой, тоже исчезло навсегда нечто, — как будто умерла часть прежнего впечатления. Скоро он понял, что умерло: «приход Добба», — Добб более не придет сюда. Он не придет также к жене и матери. Первый раз в жизни он чувствовал, как много исчезает вокруг с исчезновением человека, составлявшего часть жизни, хотя бы и ненавистную часть. Думая о Доббе, он видел безмолвную пустоту везде, где в его мысли мог жить и быть Добб: в горах, шахтах, перед собой и всюду, о чем он думал, как о месте, связанном с фигурой приятеля.
Зная, что никто не увидит его, и если увидит, то никогда не постигнет той смеси презрения и вызова по отношению к самому себе, — не ощутит пружины движения, заставившего подойти к зеркалу, — Фицрой остановился перед стеклом и быстро заглянул в собственные глаза. Даже видя лицо, ему было трудно поместить внутренний мир свой в черты зеркального двойника, — черты были красивы и грустны. Бледность и загар смешались в этом лице с ясностью прозрачных сумерек; выражение не было ни подлым, ни хитрым, лишь в глазах тронулось и исчезло нечто подобное мгновенно вильнувшему хвосту лисы. «Это мое лицо. Я зол. Я жесток. Я рад».
— Мой рад, масса, — сказал негр, внося кофейник. — Твой приехал, не захворал.
— Рад? — переспросил Фицрой, хмурясь и вглядываясь в него.