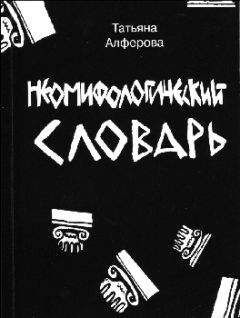Пантелеймон Романов - Рассказы
— Ну, мне налево, а вам?
— И мне налево, — сказал Гвоздев.
Полквартала шли молча.
— Да, вот какие дела, — сказал Останкин, потому что так долго молчать ему показалось неловко.
Гвоздев промолчал.
Еще прошли полквартала.
Останкин шел и напряженно думал, какой бы это еще вопрос задать Гвоздеву, но потом он сказал себе: «С какой стати я должен об этом беспокоиться, ведь он-то тоже молчит. Я хоть до этого говорил всю дорогу».
И приятели еще два квартала прошли молча.
Когда дошли до нового перекрестка, Гвоздев в свою очередь задал вопрос:
— Вам направо?
Останкин сам хотел задать этот вопрос, чтобы иметь возможность повернуть от Гвоздева в сторону, противоположную той, куда он пойдет, и потому замялся, как заминается человек, когда ему протягивают две руки с зажатой в одной из них шахматной фигурой и говорят: «В правой или в левой?»
— В левой, то есть налево… — сказал Останкин, покраснев.
— Черт возьми, нам все время по дороге. Вы что, где-нибудь здесь живете?
— Нет, нет, я дальше.
Останкин сказал это как раз в тот момент, когда они проходили мимо ворот его дома. Но он, боясь, как бы Гвоздев не зашел к нему, шел за Гвоздевым, сам не зная куда.
Все это совершенно испортило настроение, и когда, пройдя целую версту лишнего, он повернул назад и вспомнил, что сегодня идет в первый раз с Раисой Петровной в театр, это ему не доставило никакого удовольствия. И если бы он знал, что ему придется пережить в театре, он сейчас бы, не раздумывая ни минуты, разорвал эти несчастные билеты и развеял бы их по ветру.
VIНо прежде, чем идти в театр, нужно было успеть переделать возвращенный редактором рассказ.
И тут началось мучение.
Останкин пришел домой, наскоро пообедал и сел за рассказ.
Прежде всего в верхнем углу корректуры была надпись красными чернилами:
— Не видно лица…
И тут началось мученье.
Эта надпись приводила Останкина в полное отчаяние. Он сжал голову обеими руками и долго сидел так, глядя в корректуру.
— Какое же у меня лицо?.. Ну, ей-богу, нигде, кроме России, не могут задать такого идиотского вопроса!
— Вот и извольте с таким настроением идти в театр! А там еще какой-нибудь осел вроде Гулина, привяжется и крикнет на все фойе:
— Читали?..
— Вы еще не готовы? — послышался оживленный женский голос в дверях.
— Я сию минуту. Пожалуйста, войдите.
Останкин распахнул перед Раисой Петровной дверь. Она вошла и остановилась, осматриваясь. Потом увидела на столе корректуру и живо спросила:
— Что это? Вы пишете?..
Она с таким радостным изумлением подняла брови, как будто для нее это было самой приятной неожиданностью.
Останкин покраснел и спрятал поскорее корректуру в стол.
— Нет, это только начало, мне не хочется показывать вам этих пустяков.
И сейчас же подумал о том, какой был бы позор, если бы она успела посмотреть рассказ, на котором стоит красными чернилами надпись:
— Не видно лица…
Она была уже одета для театра. На ней было строгое, глухое черное платье и высоко взбитая, завитая прическа. Глаза возбужденно мерцали, как бывает у женщин, когда они собираются на бал, только что напудрились на дорогу и чувствуют в себе праздничную приподнятость.
VIIОстанкину стало приятно от мысли, что он пойдет в театр с такой красивой и так хорошо одетой женщиной.
Но в это время в конце коридора у выходной двери он увидел высокую фигуру коменданта в больших сапогах и в синей рубашке с расстегнутым воротом. И почувствовал, что пройти у него на глазах с хорошо одетой женщиной неприятно, потому что он, наверное, подумает: вот это так пролетарский элемент, какую кралю в соболях подцепил да и сам прифрантился.
— Ах, платок забыл! — сказал Останкин, — вы одевайтесь и идите к трамваю, я догоню.
Он вернулся в комнату и стал смотреть в окно на двор, чтобы видеть, когда Раиса Петровна пройдет в ворота.
Он увидел ее во дворе и побежал догонять ее.
Ему вдруг до ощутимости ясно представилось, что что-то должно с ним случиться.
Пробегая около коменданта, который смотрел, как починяли электрические пробки, Останкин счел нужным остановиться, чтобы комендант увидел, что он идет один и не спешит.
— Когда будет собрание? — спросил он.
— В субботу, — отвечал комендант, посмотрев почему-то ему на ноги.
Останкин вышел из дома и взял Раису Петровну под руку.
— Что вам ценнее всего в писателе? — спросил он, когда они выходили на улицу.
— Как вам сказать… для меня лично ценнее всего за материалом чувствовать его самого, как невидимого судью жизни. Я не люблю новой литературы, потому что, когда читаешь, то такое впечатление, точно все пишут на заданные темы и не имеют своей темы.
— Что же, значит, вам дороже всего… лицо писателя? — спросил иронически Останкин.
— Вот, вот! Вы очень тонко это выразили. Именно лицо.
Леонид Сергеевич от этой похвалы своей тонкости почувствовал полный упадок духа и подумал о том, что хорошо, что он поторопился и сунул рассказ в стол.
— Почему вы, писатели, так не любите показывать его, и нас, простых смертных, не допускаете в свое «святая святых»? А ведь только лицо писателя делает вещь вполне ценной.
Останкин искоса посмотрел на Раису Петровну и ничего не сказал. «Кто ее знает, что она за человек», — мелькнуло у него в голове.
Не напрасно ли он вообще-то пошел с ней, незнакомой женщиной, в театр, в общественное место, где его могут видеть с ней все?
Может быть, как раз предчувствие касается ее?..
Но какое предчувствие? Что с ним может случиться в театре? Что, на него покушение, что ли, будет? Просто развинтились нервы от глупого редакторского замечания. Да и это совсем не серьезно. Тот же редактор, наверное, давно уже и забыл, что у секретаря его не оказалось лица.
Но ему представлялось, что все только и думают о газетной статье и подсматривают, как-то он теперь чувствует себя.
Когда они вошли в театр, Останкин даже стал украдкой осторожно вглядываться в лица, стараясь угадать, знают ли эти люди что-нибудь или еще ничего не знают? Читали они статью или не читали?
Лица у всех были спокойны, как бывают обыкновенно в театре, когда публика только еще собирается, и все ходят от нечего делать по фойе, рассматривая по стенам картинки и лица встречных.
Коридоры и фойе наполнялись нарядной публикой, как всегда бывает на премьерах.
Раиса Петровна, оправлявшая у зеркала волосы, часто с улыбкой повертывала в его сторону голову и продолжительно взглядывала на него. Останкин, державший ее сумочку в руках, отвечал ей такой же улыбкой, но он заметил сзади на ее горжетке большую плешину и это разбивало все его настроение. Да и вся горжетка при свете электричества, а главное в сравнении с мехами нарядных дам, выглядела довольно потертой.
И ему было неловко оттого, что он держит в руках сумочку этой плохо одетой дамы, как будто она близкий ему человек. А она так празднично себя чувствует и так открыто перед всеми смотрит на него, не зная того, как она выглядит сзади с этой плешиной.
Мысль об этом и о том, что его что-то ожидает здесь, что вот-вот, может быть, сейчас что-то произойдет, сделала то, что ему начали против воли лезть в голову самые нелепые мысли, которые он мысленно выговаривал про себя, и не мог с этим бороться.
Раиса Петровна попросила его походить с ней по фойе. Она шла оживленная, возбужденно-ласковая, но ее ласковость производила обратное действие на Останкина, потому что ему казалось, что идущие за его спиной люди смотрят на ее плешину.
«Ай да пара — писатель без лица и дама с плешиной!..»
И чем больше Раиса Петровна проявляла по отношению к нему ласковость и даже заботу близкого человека, тем он становился угнетеннее, рассеянней, спотыкался на пятки впереди идущих, а один раз издал горлом какой-то странный звук, так что на него оглянулись.
Самое мучительное было то, что сзади них шли и смотрели, как она с своей плешиной интимно нежно идет с ним под руку.
Вдоль стены фойе стояли диванчики. Если на них сесть, то будешь спиной к стене и к публике лицом.
— Не хотите ли посидеть? — сказал Останкин.
— Нет, я так давно не была среди народа, что хочется немножко потолкаться, — ответила Раиса Петровна. — Ну, да, так мне хочется продолжить наш разговор… Почему же вы не показываете своего лица? Что это — скромность?
Две ближайшие пары оглянулись на них. Останкин поспешил повернуть…
Ему казалось, что ей было приятно, что другие слышат ее голос, ее интересные замечания и оглядываются на них. Как будто она говорит не только для него, а и для публики. И от этого было неловко.
А, кроме того, тут всякий народ, может быть, кто-нибудь из своих увидит его и скажет завтра в редакции: «Есть писатели, которые делают вид, что они живая часть пролетариата, а какие знакомства они водят, спросите-ка их!..»