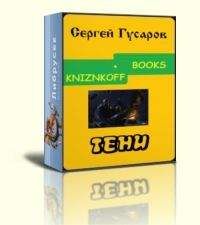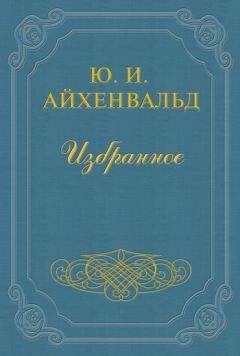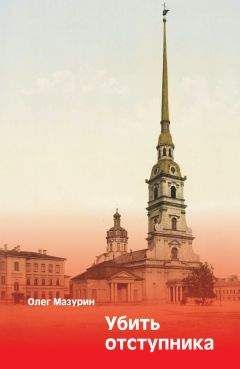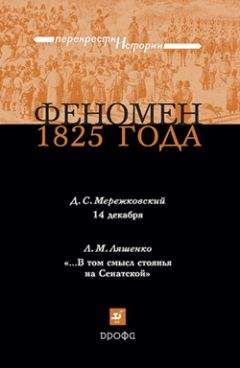Сергей Терпигорев - Потревоженные тени
— Да уж и сам, сударыня, не знаю, — отвечал Михей. — Оно, конечно, если так...
— Не отдавай, мой совет, — сказал отец.
— Да оно, точно... действительно... — и с ним согласился Михей.
— А куда его хотят отдать? — спросил я, как будто ничего не знаю.
— Там... в ученье, — отвечала матушка. — А те меньше? Этот самый старший? — обратилась она опять к Михею.
— Самый старшенький, — отвечал Михей. — Последнему-то еще году нет...
XII
Был уж май — роскошный, цветущий: сад, поля, леса стояли в полном уборе. Мы по целым дням не бывали дома: уйдем с утра в сад, да так там и живем: чай, завтрак, обед — все на террасе, а то и вовсе в саду же, где-нибудь тут, поближе к дому; ученье нам в это время прекращалось, так разве иногда, в дурную погоду, в дождик, чтобы не сидеть без дела, не скучать в доме, нас заставляла Анна Карловна писать под диктовку.
Мне в этом году — я уже сказал выше — было позволено ловить рыбу удочкой. Для этого я должен был кого-нибудь позвать с собою — одному не дозволялось ходить на реку. Чаще всего мне давали в провожатые старика Осипа Ивановича, дядьку, и потом денщика деда-покойника, с которым он ходил в ополчение в двенадцатом году. Но раз как-то Осип Иванович заболел или так почему-то не мог со мною идти, и меня поручили охране и надзору повара Степана, того самого заштатного дворового человека, которого посылали готовить кушанье у дяди в Прудках, когда тот только что приехал и у него не было еще своего повара.
Степан этот был великий искусник во всяких охотах. Он и с ружьем ходил и с удочкой, ставил силки зимой на куропаток, ходил с дудочками за перепелами — он знал все. Кроме того, Степан прожил почти целых две недели у дяди в Прудках, видел «ее», видел все тамошние порядки, ему все было и «это» известно. Я очень обрадовался поэтому, когда матушка сказала мне, чтобы я, за болезнью или за недосугом Осипа, взял с собою Степана. Я очень живо скомандовал, и мы с ним отправились, закинув длинные удилища на плечи.
К реке надо было идти мимо конюшни — не заводской, а той, в которой стояли езжалые лошади. Когда мы проходили мимо, я с удивлением увидал, что кому-то запрягают линейку: ни матушка, ни отец никуда не собирались — кто же это едет?
— Это кому? — спросил я Ермила.
— Нянюшке-с, — отвечал он. — В Прудки ее, кажется, посылает барыня.
В Прудки? Зачем? Что это такое? Я помню, обстоятельство это меня сильно заинтересовало, так сильно; что я чуть не вернулся домой узнать, зачем она едет в Прудки? Но Степан совершенно резонно заметил, что никакой удачи не будет в охоте, если с дороги воротиться, и мы пошли с ним дальше. Но я все никак не мог успокоиться, любопытство меня дразнило, а загадочные события, совершающиеся в Прудках, все еще не совсем мне известные и как следует понятные, невольно наводили на мысль и как бы указывали на свою связь с предстоящей экспедицией туда няньки...
Степан, к удивлению моему, сам и совершенно неожиданно начал:
— Барышня-мадама-то плоха уж очень стала... — сказал он, далеко закидывая от себя удочку.
Я посмотрел на него с удивлением и проговорил:
— А что? Разве присылали? Был оттуда кто?
— Михей-садовник... мальчишку-то своего он отдал там ей... Утром сегодня приходил, маменьке с папенькой рассказывал. Совсем стала плоха...
— Да что у нее?
— Известно — чахотка...
— Вот несчастная-то! Жалко ее...
— Как же не жалко! Известно — жалко! Если бы не она, так еще не то дяденька-то в Прудках-то понаделал бы!
— Для чего же она к себе этого Михеева внучка взяла, ведь она больна?
— Ну, такое, стало быть, ее мечтание: все покойников — Дмитрия с Василием — забыть не может, что они через нее от дяденьки пострадали.
— Да ведь она же тут ни при чем?
— Известно, ни при чем. Когда их наказывали, она слышала, как дяденька велели запороть их Максиму Ефимову... на коленях умоляла со слезами, а потом, когда дяденька сами туда пошли, она перед образом упала, молилась...
Эти подробности на меня подавляюще действовали, безвыходность, немощность какая-то сказывалась в них, и в то же время они и будили меня, хватали за сердце, и я не знаю, на что бы только я не решился, чего бы я не сказал тогда в глаза и дяде и всем, кто спокойно выслушивал это и умывал при этом руки... Я задумывался, уставившись куда-нибудь в одну точку, и у меня целые живые картины выступали перед глазами — яснее куда, чем во сне...
А Степан продолжал:
— Маменька-то сжалилась над ней... Самим-от, известно, неловко к ней ехать, к барышне-мадаме-то, потому, что же она? все-таки не равная какая: наложница дяденькина.
— Как, что?
Степан объяснил мне новое слово, которого я до того времени еще не слыхал.
Я молчал, а Степан, словно нарочно, словно решив почему-то и для чего-то посвятить меня во всю эту историю, продолжал:
— Вот они (то есть матушка), подумав да пообсудив с папенькой, и решили послать к ней нянюшку Дарью Афанасьевну — может, нужно что ей или какое у нее желание есть...
С этого ужения я пришел и возбужденный, и убитый, и страстно в то же время ожидающий и желающий узнать о последствиях нянькиной поездки в Прудки. Няньки еще не было, она не возвращалась еще. В саду я встретил только матушку: отца не было — он был где-нибудь в поле, вероятно. Сестра Соня бегала с мячиком, а матушка ходила, о чем-то рассуждая с Анной Карловной.
— Ну что, наловил сегодня много? — спросила меня матушка, когда я подошел к ней.
Я небрежно отвечал ей и спросил ее:
— А куда это нянька уехала? Мы видели, она мимо нас по дороге проехала.
Матушка пристально взглянула на меня и сказала совершенно спокойным голосом:
— В Прудки.
— Зачем?
— К больной одной.
— Кто такая?
— Там, ты не знаешь... — И добавила: — Ну иди, вон, бегай с Соней. Я хотел сказать ей тут же, сейчас же, что я все знаю, что я уже давно все знаю, но удержался, кажется, единственно потому, чтобы не сказать, от кого я это все знаю, чтобы не, стали потом выговаривать за меня Степану и чтобы я не, лишился через то свободного общения с человеком, от которого я мог и на будущее время все знать... Я промолчал, хотя и не пошел бегать с сестрой и играть в мяч.
— Я устал, — сказал я.
К вечеру нянька приехала, вернулась из Прудков. Мы сидели все на террасе, то есть опять-таки: матушка, гувернантка и мы — отца не было при этом. Нянька взошла и с постной миной, как и следует, приличествует важности возложенного на нее поручения, поглядывая на нас с сестрой, как бы указывая на неудобство для ее рапорта нашего здесь присутствия, остановилась и молчала.
Но матушка, под впечатлением ли нетерпения узнать от нее, что и как там нашла она, не заметила ли ее взглядов, забыла ли сама об этом или, наконец, просто не считала уж больше нужным держать от нас в тайне самый факт, оберегая нас лишь от скабрезных его подробностей, — спросила ее:
— Ну что, Дарьюшка?
— Плоха, сударыня... — отвечала нянька. — Ждут Богдана Карловича.
Сказала она это и опять повела на нас глазами, и на этот раз уже как-то настоятельно, так что ее требование удаления нас или, по крайней мере, уединения матушки с ней одной для выслушивания ее рапорта матушка заметила и поняла и приказала нам с сестрой идти гулять по дорожкам перед террасой. Она сказала это таким тоном, что я понял, что никаких возражений тут делать не следует, — все будет напрасно.
— Ну, все равно я завтра же все узнаю, — с досадой говорил я Соне, когда мы пошли с ней. — Завтра, как пойду удить рыбу со Степаном, все и узнаю.
— Он знает? — спросила сестра.
— Все.
— Да ведь няньку в Прудки разве к «ней» посылали? — спросила сестра.
— К «ней»... «Она» умирает. И садовника Михея внук у нее. «Она» упросила-таки отдать его ей...
И гуляя перед террасой (все ближе и ближе к ней) и потом из разговоров в этот вечер за чаем отца с матушкой, хоть и отрывочно, но многое все-таки я узнал из подробностей, привезенных нянькой. Во-первых, «она», действительно, безнадежно больна — не встает: «точь-в-точь как Клавдия Васильевна» (тетка, которая давно когда-то умерла в чахотке), потом все только и думает о том и говорит, что как бы она была рада и счастлива, если бы ей, как только она выздоровеет и поправится, позволили бы хоть на минуточку одну приехать к нам — она хочет что-то много-много рассказать матушке... Потом, что за ней приставлена Максимом Ефимовым (управляющим) ходить девка Малашка, которая все-все, с кем бы и о чем бы она ни говорила, докладывает ему, и он, таким образом, все знает, а ей нет никакого покоя, душа ее не покойна, так как перед ней целый день торчит человек — враг ее...
Но самое важное, что мы или, по крайней мере, я узнал, — это было то, что матушка остановилась на мысли «как-нибудь на днях самой к ней поехать»... Это было такое радостное, такое хорошее, милое для меня известие, что на первых порах я чуть не кинулся на шею обнимать матушку... Отец тоже говорил об этом — отрывками, я слышал, — как о факте самом обыкновенном, не представляющем ничего удивительного. Их занимало гораздо больше обсуждение того обстоятельства, что как бы этим не повредили ей в глазах дяди Петра Васильевича, который, не было в том никакого сомнения, «бросил ее» и будет рад очень случаю в чем-нибудь заподозрить и к чему-нибудь придраться...