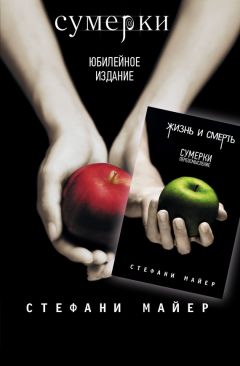София Дубнова-Эрлих - Жизнь и творчество С М Дубнова
Цикл "Inter Arma" должен был состоять по первоначальному замыслу из десяти глав. Он предназначался главным образом для нееврейского читателя; автор предложил своему переводчику Д. Мовшовичу передать статью в редакцию "Daily Cronicle". К работе над дальнейшими главами он решил приступить после выхода в свет третьего тома мемуаров. Он погружен был в чтение корректур, когда в занесенном снегами доме появился неожиданный гость с Запада. Молодой еврейский журналист, принесший с собой дыхание объятой военным пожаром Европы, пытался убедить писателя уехать из стратегически ненадежной Риги в недалекий Стокгольм, столицу мирной, благоустроенной страны, твердо блюдущей традиции нейтральности. С. Дубнов решительно отверг это предложение. Он объяснил гостю, что в свое время покинул Россию ради того, чтобы довести до конца свой главный труд. Труд этот теперь завершен, а преклонный возраст не располагает к путешествиям. И самое главное: в тяжелое время еврейский писатель должен оставаться в среде своих братьев и делить их судьбу.
Начало весны принесло новые тревоги. Клещи войны, охватившие Европу, плотно сомкнулись на севере; рассказы беженцев из Польши о кошмаре немецкой оккупации рождали ужас и (281) бессильное возмущение. Писатель целыми часами шагал по кабинету, пытаясь подавить волнение, и гулко отдавались одинокие шаги в тишине пустых просторных комнат. От горьких размышлений оторвали его хлопоты, связанные с выходом в свет "Книги Жизни". Первую часть нового тома составляли воспоминания о берлинском периоде (1922-1933), доведенные до переселения в Латвию; автор добавил к написанным раньше главам небольшой элегический эпилог, в котором он мысленно прощался с давно покинутой родиной. Во вторую часть вошли фрагменты из дневников - размышления на общественные, литературные и бытовые темы.
В апреле С. Дубнов уехал в Ковно. Здесь, в доме преданного друга Анны Бейленсон, он с новой силой почувствовал, какой душевной опорой в трудное, переломное время является общение с людьми. Гостеприимный дом превратился в шумный клуб: не было конца беседам, спорам, совещаниям. Центром собеседования, организованного местными журналистами, был доклад писателя о судьбах еврейства в дни войны. Отчет о докладе в печати пришлось сильно сократить: литовская цензура не разрешала критиковать гитлеризм. Белые пятна испестрили и небольшую статью "20-е столетие и средневековье", помещенную в ковенской газете "Идише Штимме": историк устанавливал, что первые четыре десятилетия 20-го века принесли еврейскому народу больше бедствий, чем самые темные века прошлого. Статья заканчивалась, однако, выражение уверенности, что человечность одержит победу над варварством.
В Вильне писателя ждала встреча с семьей, соратниками и учениками. Старый город, несмотря на близость к изнывавшей под немецким гнетом Польше, не поддавался унынию: в общественной жизни царило большое оживление. Особую струю внесли военные эмигранты - писатели, педагоги, культурные деятели. Людно было в здании Научного Института, распахнувшем окна в весенний холодок молодого сада: в солнечных комнатах размещены были экспонаты выставки, организованной в 25-ую годовщину смерти И. Л. Переца. Литературные поминки продолжались несколько дней и закончились коллективной радиопередачей на еврейском языке, в которой принял участие и гость (282) из Риги; эта передача была событием в жизни литовских евреев - впервые государственное радио заговорило на их языке.
Частые встречи с 3. Кальмановичем и другими работниками Института укрепили писателя в мысли, что его настоящее место - среди виленских энтузиастов науки, созданных, как и он, из крепкого, огнеупорного материала. С этими мыслями уехал он в свое лесное затишье, решив исподволь готовиться к переселению в Вильну. Мягкие, солнечные дни плыли над Прибалтикой, но эту тишину сотрясали далекие взрывы: германская лавина неудержимо катилась на запад, снося пограничные вехи. Писатель особенно тревожился за Францию, издавна любимую страну энциклопедистов, революции, Декларации прав. Следя за продвижением вражеских полчищ к Парижу, он мысленно взывал к чуду, к новой Марне, к патриотическому порыву времен Конвента. Капитуляция французской столицы его потрясла: сумерки Европы показались беспросветными.
Спустя несколько дней сильные пограничные отряды Красной Армии вступили на территорию Прибалтики. Неожиданно в фантастической обстановке войны довелось писателю встретиться с Россией, с которой он простился навсегда в послесловии к "Книге Жизни". Атмосфера этой встречи не напоминала бурных послеоктябрьских дней: переворот в Латвии совершился без кровопролития, и в состав первого временного правительства вошли представители беспартийной прогрессивной интеллигенции. В письме к дочери С. Дубнов характеризовал новое правительство, как демократическое и высказывал удовлетворение по поводу падения диктатуры Ульманиса, втягивавшей страну в орбиту гитлеризма.
Преждевременным оказалось, как убедился писатель, не только подведение жизненных итогов, но и планировка, рассчитанная на устойчивость военной обстановки. От плана переселения в Литву пришлось отказаться: граница между отдельными балтийскими республиками, в июле включенными в состав Советского Союза, была наглухо закрыта. На пороге восьмидесятилетия историк с горечью ощутил бессилие единичной человеческой воли перед исторической стихией. Накрепко прикованный к маленькой республике, которую вчера еще собирался (283) покинуть, он мучительно силился угадать, что сулит и этой стране и ему новый крутой поворот судьбы.
В конце лета С. Дубнова посетил видный еврейский коммунист, с которым ему случалось встречаться в довоенные годы. Посещение носило полуофициальный характер; гость авторитетно заявил, что перемена режима не должна внушать писателю опасений: правительство, во главе которого стоит человек науки, ценит культуру и ее представителей. Он добавил, что покой писателя будет огражден: несмотря на трудности военного времени, его обширная квартира не подвергнется обязательному "уплотнению".
Внешняя обстановка, действительно, осталась прежней, но изменился весь стиль жизни: неутомимый труженик почувствовал себя безработным. Война приостановила все переводы его книг: особенно тяжелым ударом был провал плана английского издания "Истории". В самой Латвии новые веяния сказались в том, что недавно переизданный учебник признан был несоответствующим духу народной школы.
С особенной силой ощутил писатель свое одиночество в день восьмидесятилетия. От семьи отделяла его охраняемая штыками граница; не было вестей от друзей, которые бежали из Парижа и скитались в ожидании виз по югу Франции; Америка глухо молчала; затруднены были и сношения с Палестиной, где спасались от мирового пожара одесские соратники писателя и хранились скромные сбережения, составлявшие основу его бюджета. Трудно было дышать в этом внезапно сузившемся мире.
Когда осенью пришло известие, что дочь и внуки собираются в Америку, ощущение замкнутого круга стало еще более гнетущим. В тоске С. Дубнов обратил взоры на восток; из возобновившейся переписки выяснилось, что брат Владимир доживает свой век в Москве в убогой обстановке. С. Дубнов увлекся новым планом: быть может, суждено - думалось ему, чтобы братья, которые были неразлучны в юности, провели вместе последние годы жизни. Владимир неопределенно отвечал на горячие призывы, не решаясь открыть горькую правду: разбитый параличом, он медленно угасал, и только заботы племянника Якова поддерживали слабо тлеющий огонек жизни.
(284) Зима 1940-41 г. была вьюжная, суровая. Писатель мерз в обширном кабинете; вспоминались далекие петербургские зимы. Дочь и внуки уехали, и он следил за их сложным маршрутом, тревожась за шестинедельную правнучку Мириам, которую назвал в письме "самой юной заокеанской путешественницей".
Вокруг шумела трудная, противоречивая, перестраивающаяся жизнь; она не вторгалась в келью отшельника. Новая действительность была ему органически чужда; в ней отсутствовали необходимые атрибуты существования - постоянное общение с разбросанными по свету идейными соратниками, активное участие в культурной и общественной жизни всемирного еврейства. Событием в монотонном беге дней становился каждый отклик издалека, каждая новая книжка еврейского журнала. Рой воспоминаний пробудило письмо д-ра Майзеля, бывшего библиотекаря берлинской общины, переселившегося в Иерусалим. Горечь, переполнявшая душу писателя, вылилась в строках ответа, датированного 5 марта 1941 г. Подтверждая получение письма, С. Дубнов писал: "...Как всякая весть из далеких стран, оно было большим событием в жизни человека, заключенного в охваченную войной тюрьму Европы, хотя и в пределах нейтральной страны. Положение нашей братии в Палестине теперь несколько улучшилось, благодаря победам англичан в Африке (побольше бы таких побед!). Есть надежда, что зараза мировой бойни не коснется вас и не осквернит святынь нашей родины. Заслуги Палестины перед Богом и мне пошли на пользу - оттуда, хоть изредка, приходят письма и печатный материал, в то время, как из Америки я не получил с конца лета 1940 г. ни единого слова..... Наша жизнь теперь полна чудес: мы чудом остались в живых в мире, в котором кишмя кишат ангелы смерти (на языке современной науки они зовутся смертоносными бомбами) и всякие другие духи разрушения, даже вне пределов поля брани. Но мы отрезаны от источника нашей культурной жизни; после долгих поисков мне едва удалось получить маленький еврейский календарь 1941 года, единственный образчик нашей "литературы" за истекший год. Иностранные газеты здесь не получаются; о том, что происходит на свете, мы знаем немного, и это немногое оформлено по местному рецепту. А вы, обладатели богатств, еще жалуетесь на кризис литературы в вашей стране!