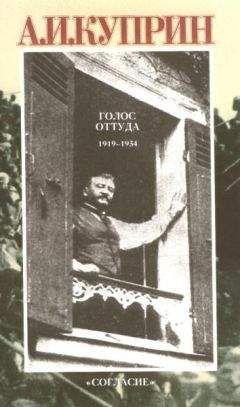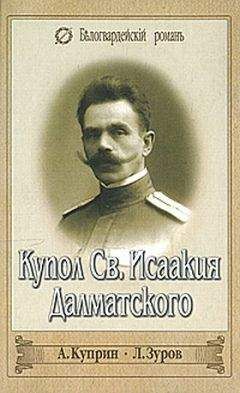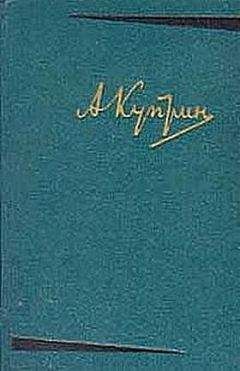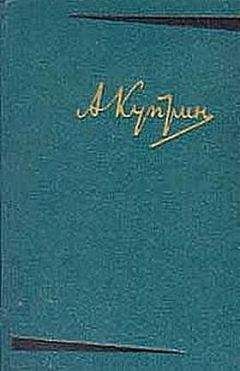Николай Лесков - Том 6
— Конечно, — говорю, — такой неделикатности Шерамур не сделает, но вот меня занимает: как он поведет себя с дипломатом? Предупредили ли вы того: какой это экземпляр?
— Как же — я все сказала.
— Ну, и что же он?
— Очень смеялся.
Я покачал головою и сомнительно спросил:
— Зачем же он очень смеялся?
— А что?
— Да так… Зачем это они все нынче любят очень смеяться, когда слышат о страдающих людях. Лучше бы немножко посмеяться и больше о них подумать.
И она вздохнула и говорит:
— Правда, правда, правда.
— А когда, — опрашиваю, — их rendez-vous?[29]
— Завтра.
— Ну, хорошо. А Шерамуру вы не дали никакого наставления, как ему себя держать?
— Нет.
— Это очень жаль.
— Да не могла, — говорит, — он так скоро убежал, что мы и не простились.
— Отчего же так?
— Не знаю; должна была на минуту выйти и предложила ему почитать книгу, а когда пришла опять в комнату, — его уже не было; девушка говорит: швырнул книгу и убежал, как будто за ним сам дьявол гнался.
— Что за чудак!
— Да.
— Что же это может значить?
— Я вас могла бы об этом спросить, вы его больше знаете.
— Так, — говорю, — но надо знать: что перед этим было?
— Перед этим? — перед этим он съел довольно много омлета с малиной.
— А, — говорю, — это тоже не шутка.
И мы оба, казалось нам, поняли и рассмеялись.
— Но, впрочем, — добавила она, — я надеюсь, что все будет хорошо.
А я, признаться, на это не надеялся, хотя сам не знал, почему все добрые надежды на его счет были мне чужды.
Затем, следующий день я провел в беготне и в сборах и не видал Шерамура. Консьерж говорил, что он приходил, узнал, что меня нет дома, и ушел, что-то написав на притолке.
Я долго разбирал и прочитал нечто несообразное и не отвечавшее главному интересу минуты. Надпись гласила: «Оставьте мне пузырянку глазных капель, что помогают от зубной боли».
Я знал, что он один раз, когда у него болели зубы, взял в рот бывшие у меня глазные капли и тотчас исцелел. Это меня тогда удивило и насмешило, и я отдал консьержу «пузырянку», чтобы передал Шерамуру, если он не застанет меня дома. Но он не приходил за глазными каплями — вероятно, зубы его прошли сами собою.
На следующий день он не явился, и еще день его тоже не было, а потом уже наступил и день моего отъезда. Шерамур как в воду канул.
Я был в затруднении; мне чрезвычайно хотелось знать: чем его бог через добрых людей обрадовал; но Шерамура нет и нет — как сквозь землю провалился.
Хоть неловко было докучать моей даме после прощания, но я урвал минутку и еду к ней, чтобы узнать: не был ли у ней мой несмысль или не слыхала ли о нем чего-нибудь от того, к кому его посылала.
Приезжаю и не застаю ее дома: говорят, она на целую неделю уехала к приятельнице за Сен-Клу*.
Конечно, больше искать слухов было негде, и я помирился с той мыслью, что, вероятно, так завтра и уеду, ничего не узнав о Шерамуре. А потом, думаю, он, пожалуй, так и затеряется, и в сознании моем о нем останется какой-то рассучившийся обрывок… Будет и жалко и досадно всю жизнь воображать, что он по-прежнему все голоден и холоден и блуждает от одной скамьи до другой, не имея где выспаться.
Кто настоящий эгоист, кто с толком любит свой душевный комфорт, тот должен тщательно избегать таких воспоминаний. Вот почему, между прочим, и следует знакомиться только с порядочными людьми, у которых дела их всегда в порядке, и надо их бросать, когда фортуна поворачивается к ним спиною. Это подлое, но очень практическое правило.
И вот прошла последняя ночь, прошло утро; я сбегал позавтракать невозможными блюдами m-me Grillade, — все в чаянии встретить там Шерамура, и, наконец, за час до отхода поезда нанял фиакр, взял мой багаж и уехал.
Я знал, что приеду на амбаркадер* рано; это мне было нужно, чтобы встретиться с земляком, с которым мы условились ехать в одном поезде, притом я хотел поправить свой желудок несколько лучшим завтраком.
О Шерамуре размышлять было уже некогда, но зато он сам очутился передо мною в самую неожиданную минуту, и притом в особенном, мало свойственном ему настроении.
Глава семнадцатая
Перед самым главным подъездом амбаркадера северной дороги есть небольшой ресторан с широким тротуаром, отененным пятью густыми каштанами, под которыми расставлено множество белых мраморных столиков. Здесь дают настоящее мясо и очень хорошее красное вино. Таких ресторанчиков тут несколько, и все они главным образом существуют на счет отъезжающих и провожающих; но самый лучший из них это тот ресторан с пятью каштанами, о котором я рассказываю. Тут мы условились встретиться с земляком, с которым хотели держать путь, и как сговорились, так и встретились. Комиссионер избавил нас от всяких трудов по сдаче багажа и покупке билетов, и мы имели добрый час досужего времени для последнего завтрака под тенью парижских каштанов. Мы заняли один столик, спросили себе бифштексы и вина и не успели воткнуть вилки в мясо, как на империале выдвинувшегося из-за угла омнибуса появился Шерамур, которого я издалека узнал по его волнующейся черноморской бороде и бандитской шляпе. Он и сам меня заметил и сначала закивал головою, а потом скоро соскочил с империала и, взяв меня за руку, сжал ее и не только подержал в своей руке, но для чего-то поводил из стороны в сторону и даже промычал:
— Ну!
— Да, — говорю, — вот я и уезжаю, Шерамур.
Он опять пожал и поводил мою руку, опять что-то промычал и стал есть бифштекс, который я велел подать для него в ту минуту, когда только его завидел.
— Пейте вино, Шерамур, — поднимайте прощальную чашу, — ведь мы с вами прощаемся, — пошутил я, заговорив in hoch romantischem Stile.[30]
— Могу, — отвечал он.
Я налил ему большой кубок, в который входит почти полбутылки, и спросил еще вина и еще мяса. Мне хотелось на расставанье накормить его до отвала и, если можно, напоить влагою, веселящею сердце.
Он выпил, поднял другой кубок, который я ему налил, сказал «ну», вздохнул, и опять поводил мою руку, и опять стал есть. Наконец все это было кончено, он выпил третий кубок, сказал свое «буде», закурил капоральную сигаретку* и, опустив руку под стол, стал держать меня за руку. Он, очевидно, хотел что-то сказать или сделать что-то теплое, дружественное, но не знал, как это делается. У меня в груди закипали слезы.
Я воспользовался его рукожатием и тихо перевал в его руку двадцатифранковый червонец, которым предварительно подавил его в ладонь. Он почувствовал у себя в руке монету и улыбнулся, улыбнулся совершенно просто и отвечал:
— Могу, могу, — и с этим зажал деньги в ладонь с ловкостью приказного старых времен.
— Ну как же, — говорю, — расскажите, любезный Шерамур, каков вышел дебют ваш в большом свете?
— Где это?
— В посольстве.
— Да, был.
— Что же… какой вы там имели успех?
— Никакого.
— Почему?
— Я не знаю.
— Ну, шутки в сторону; рассказывайте по порядку: вы нашли кого нужно?
— Нашел. Я сначала попал было куда-то, где написано: «Извещают соотечественников, что здесь никаких пособий не выдают». Там мне сказали, чтобы смотреть, где на дверях заплатка и на заплатке его имя написано.
— Ну, вы нашли заплатку и позвонили.
— Да.
— Вас приняли?
— Да, пустили.
— И вы рассказали этому дипломату всю вашу историю?
Шерамур посмотрел на меня, как делал всегда, когда ему не хотелось говорить, и отвечал:
— Ничего я ему не рассказывал.
Но я не мог позволить ему так легко от меня отделаться и пристал:
— Отчего же вы не рассказали? Ведь вы же с тем пошли…
— Да что ж, как ему рассказывать, если он не вышел.
— Что это за мучение с вами: «приняли», «не вышел», — говорите толком!
— Лакей пустил и велел пять минут подождать. Я подождал пять минут, а потом говорю: пять минут прошло. Лакей говорит: «Что делать, — monsieur,[31] верно, позабыл». А я говорю: «Ну так скажи же своему monsieur, что он свинья», — и ушел.
Я просто глаза вытаращил: неужто это и все, чем кончилась моя затея?
— А что же вам еще надо?
— Шерамур, Шерамур! Злополучное и бедное создание: да разве это так можно делать?
— А как еще надо делать?
— Да вы бы подумали — ведь мы из-за этого подняли целую историю: впутали сюда светскую даму…
— А ей что такое?
— Как что такое? Она вас рекомендовала, за вас старалась, просила, а вы пошли, обругали знакомого ей человека в его же доме и при его же слуге. Ведь это же так не водится.
— Отчего — не водится?
— Ну вот еще: «отчего?» — не водится, а вдобавок ко всему, может быть, вы поступили не только грубо, но и совершенно несправедливо.