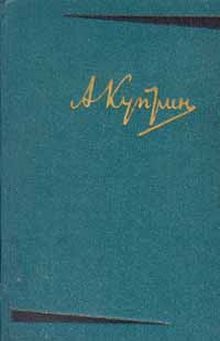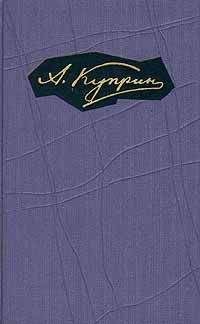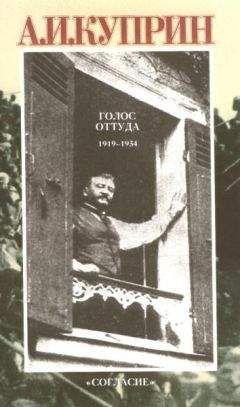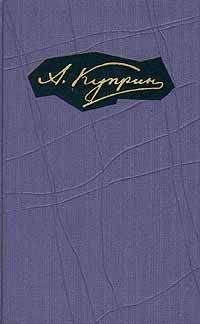Александр Куприн - Русская душа (сборник)
Kак истово-нарядна, как старинно-красива коренная, кондовая, прочная, древняя Москва. На мужчинах темно-синие поддевки и новые картузы, из-под которых гладким кругом лежат на шее ровно обстриженные, блестящие маслом волосы… Выпущенные из-под жилеток косоворотки радуют глаз синим, красным, белым и канареечным цветом или веселым узором в горошек. Kак румяны лица, как свежи и светлы глаза у женщин и девушек, как неистово горят на них пышные разноцветные московские ситцы, как упоительно пестрят на их головах травками и розанами палевые кашемировые платки и как степенны на старухах прабабушкины шали, шоколадные, с желтыми и красными разводами в виде больших вопросительных знаков!
И все целуются, целуются, целуются… Сплошной чмок стоит над улицей: закрой глаза — и покажется, что стая чечеток спустилась на Москву. Непоколебим и великолепен обряд пасхального поцелуя. Вот двое осанистых степенных бородачей издали приметили друг друга, и руки уже распространились, и лица раздались вширь от сияющих улыбок. Наотмашь опускаются картузы вниз; обнажая расчесанные на прямой пробор густоволосые головы. Kрепко соединяются руки. «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!» Головы склоняются направо — поцелуй в левые щеки, склоняются налево — в правые, и опять в левые. И все это не торопясь, важевато.
— Где заутреню стояли?
— У Спаса на Бору. А вы?
— Я у Покрова в Kудрине, у себя.
Воздушные шары покачиваются высоко над уличным густым движением на невидимых нитках разноцветными упругими легкими весенними гроздьями. Халва и мармелад, пастила, пряники, орехи на лотках. Мальчики на тротуарах у стен катают по желобкам яйца и кокаются ими. Kто кокнул до трещины — того и яйцо.
Пасхальный стол, заставленный бутылками и снедью. Запах гиацинтов и бархатных жонкилий. Солнцем залита столовая. Восторженно свиристят канарейки.
Юнкер Александровского училища в новеньком мундирчике, в блестящих лакированных сапогах, отражающихся четко в зеркальном паркете, стоит перед милой лукавой девушкой. На ней воздушное платье из белой кисеи на розовом чехле. Розовый поясок, роза в темных волосах.
— Христос воскресе, Ольга Александровна, — говорит он, протягивая яичко, расписанное им самим акварелью с золотом.
— Воистину!
— Ольга Александровна, вы знаете, конечно, православный обычай…
— Нет, нет, я не христосуюсь ни с кем.
— Тогда вы плохая христианка. Ну, пожалуйста. Ради великого дня!
Полная важная мамаша покачивается у окна под пальмой в плетеной качалке. У ног ее лежит большой рыжий леонбергер.
— Оля, не огорчай юнкера. Поцелуйся.
— Хорошо, но только один раз, больше не смейте.
Kонечно, он осмелился.
О, каким пожаром горят нежные атласные прелестные щеки. Губы юноши обожжены надолго. Он смотрит: ее милые розовые губы полуоткрыты и смеются, но в глазах влажный и глубокий блеск.
— Ну, вот и довольно с вас. Чего хотите? Пасхи? Kулича? Ветчины? Хереса?
А радостный, пестрый, несмолкаемый звон московских колоколов льется сквозь летние рамы окон..
У Троице-Сергия
Москва, как и Париж, любит сокращать наименования местностей. Ходынское поле у нее — Ходынка; Пресненская часть — Пресня, Трубная площадь — просто Труба. Также коренной москвич никогда не говорит «Поеду в Троице-Сергиевскую лавру», а скажет коротко: «Поеду к Троице-Сергию». А ездит он поклониться преподобному Сергию никак не менее раза в год; обыкновенно раза три, четыре и больше. Многие же, по данному обету, отправляются в лавру по способу пешего хождения, благо она недалече от Москвы, около шестидесяти верст; это — рукой подать. Идут в день верст по пятнадцати — двадцати. Ночуют у крестьян, которые с этого живут: у них всегда наготове и сенники, и самовары, и водочка, и курочка, и яички, и густые щи. Кто победнее — несут с собою в узелках скудную провизию, а ночуют летом где-нибудь, в березовом леску, на травке; там и грибки можно собирать и душистую земляничку. Благодать! И воздух какой: на что тебе и дача?
Купец московский Парфен Изотыч — железным ломом торгует он на Балчуге — тот пешеходное паломничество совершает с легонькой хитрецой. Идут всей семьею, с услужающей девчонкой, а сзади ползет собственный экипаж, солидно нагруженный всякой домашней снедью, не считая винных изделий Петра Смирнова, копченых рыбных продуктов от Ильи Калганова, бутылок с ланинской фруктовой водой и всяких ковров, подушек, думок и перин. На ночлегах для них местные домохозяева особые комнаты отводят: так называемые «белые», или дворянские. Так они путешествуют, со всеми удобствами, не торопясь, останавливаясь раз десять на переходе. Да еще, нет-нет, Парфен Изотыч, вспотев и весь промокнув, возьмет и присядет в коляску. А как осудишь его? В мужчине десять пудов с походцем. И кроме того, враг рода человеческого, чем ближе к святым местам, тем он становится злобнее и предприимчивее.
Удивительные бывают этому и поучительные примеры.
Соберется иногда небольшая купеческая компания, так человек в пять, шесть, и все одни мужчины. С бабами, мол, возни и хлопот не оберешься, и тащатся они еле-еле, и в святых местах от них только суета, помеха и соблазн.
Идут. Конечно, не пропуская ни одной остановки и скромно подкармливаясь кое-где на пути. И вот, совсем неизвестно почему, вдруг оказываются через пятнадцать дней в Москве, в трактире у «Яра», а у Троицы и не бывали… Как это могло случиться? Несомненно, по наваждению нечистого.
Народ попроще и без затей едет к Троице-Сергию по железной дороге, в третьем классе. Езды всего час с небольшим. Многие слезают в Хатькове, где покоятся родители преподобного. Оттуда направляются в Сергиев посад либо пешком, либо в вагоне.
На станцию Сергиево поезд приходит зимою под вечер. Еще не темно, но уже начинает темнеть. На выходной площадке трудно протолпиться, и вся она окружена санями: тут и простые одноконные извозчичьи сани, и пары в пристяжку — «голубки», и широченные тройки, запряженные неправдоподобно громадными косматыми жеребцами. Лошади гогочат. От них идут клубы пара. Извозчики и ямщики орут, наперерыв зазывая седоков. И откуда только эти шустрые кучера узнают мгновенно и безошибочно общественное положение всех людей, теснящихся на платформе со своими чемоданами, узлами, баулами и корзинами?
— Ваше сиятельство, лихо прокачу на петушке!
— Купец, пожа-пожжалуйте!
— Мамаша! На него не садитесь, энтот мигом опрокинет. В полицию с ним попадете.
— Ваше превосходительство, со мной в прошлый раз целую неделю ездили.
— Эй, Володька! Ты что такую уйму насажал? Обвяжи веревочкой, чтобы не рассыпались!
— Барин! Ечкинская тройка! Доставьте удовольствие барыне-то. — Тетенька! Со мной недорого и спокойно!
— Ваше преосвященство. За вами нарочно приехал. Придворный монастырский ямщик… Не угодно? Прите, прите пешком-с.
— Купчиха! Садись! Отвезу почти задаром, за одну за красоту вашу! Эй ты! Желтоглазый! Осади, сделай милость…
И все это совсем беззлобно, скорее даже ласково; так, от векового шутливого ерничества, от сытости, от здоровой игры в кровях.
Меня упрекнут, может быть, в том, что я все рассказываю в настоящем времени: говорю есть, а не было…
Но что же я могу с собою поделать, если прошлое живет во мне со всеми чувствами, звуками, песнями, криками, образами, запахами и вкусами, а теперешняя жизнь тянется передо мною как ежедневная, никогда не переменяемая, надоевшая, истрепленная фильма. И не в прошедшем ли мы живем острее, но глубже, печальнее, но слаще, чем в настоящем?
Кто мне возвратит очаровательный вкус черного хлеба с крупной солью, когда прибежишь домой, изголодавшись от беготни в одиннадцать лет, или вкус свежего огурца с сахаром, особенно если и огурец и сахар наскоро украдены дома, на кухне. Как они громко хрустели на зубах! А вдруг кто-нибудь услышит? Я помню, как мальчишкой, лет девяти, я увидел на зеленом газоне скромные милые цветочки полевой маргаритки с нежно-розовыми лепестками, чуть-чуть окропленными росою. Это было так просто и так божественно прекрасно! Я старался не дышать, чтобы не спугнуть маргариток. Мне хотелось заплакать от радостной полноты сердца. Слов я не мог бы теперь найти для того, чтобы выразить эту красоту, хотя у детей, вероятно, находятся и такие чудесные слова… Но вот, полевая маргаритка и до сих пор мой любимый цветочек, а сердце уже не радуется. Однако легким усилием воображения я могу вызвать не теперешнюю, а ту, детскую маргаритку, какой я видел ее на расцвете жизни, и опять душа моя умиляется. Что же здесь настоящее? Та ли, дальняя, мечтаемая, но живая маргаритка или нынешняя, осязаемая пальцами, но бездушная для меня? Что вернее?
* * *Весь посад состоит из множества маленьких деревянных домишек, похожих на скворечники, крашенные в коричневую краску, и почти в каждом доме может богомолец найти ночлег за очень небольшую плату. Сдают эти канареечные комнатки почему-то толстые румяные вдовы. «Аристократы посадского мещанства», балбешники (это те мастера, которые вытачивают и вырезывают из липового дерева игрушки и куклы) комнат не сдают. Впрочем, извозчики все знают: и уютные квартирки, и развеселые места.