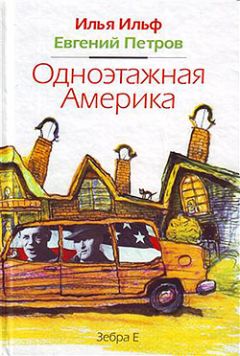Владимир Соллогуб - Старушка
Иван Афанасьевич отворил дверь, которая едва держалась на ржавом замке, и вошел в пустую с грязными стенами переднюю, где начал смущенно пошевеливаться, громко вздыхать и кашлять.
— Кто там? — закричал изнутри свежий молодой голос.
Иван Афанасьевич осторожно отворил другую дверь и увидел смуглого, черноватого молодого человека, который сидел на постели, спустив ноги на пол, и усердно играл на гитаре. Быстрыми черными глазами взглянул он с удивлением на странную фигуру старика, который высовывался из-за дверей. Несколько времени оставались они так, взаимно рассматривая друг друга.
— Кого вам надо? — спросил наконец молодой человек.
Иван Афанасьевич поклонился и спросил довольно учтиво:
— Господина Пруткова.
— Я Прутков. Меня дома нет. Я по утрам никого не принимаю.
Иван Афанасьевич сконфузился и хотел уж идти домой, но потом вспомнил, что дело идет о дочери, что он недаром отец и что он, что ни говори, наконец все-таки надворный советник, что ему робеть нечего перед мальчиком. Вследствие этого рассуждения он ободрился и подошел к молодому человеку.
— Вы меня, сударь, извините, — сказал он, — а дело вышло теперь экстренное. Я должен переговорить с вами об одном обстоятельстве.
— Уж не денег ли вы привезли от батюшки? — поспешно воскликнул Прутков, вскочив с постели. — Сделайте одолжение, садитесь, пожалуйста.
Иван Афанасьевич сел и, обтирая лицо платком, окинул взором комнату. На стенах нарисованы были бойко углем какие-то карикатуры. Между ними под разбитыми стеклами улыбались кое-какие греведоновские головки.
Вся мебель была переломана и покрыта страшными слоями пыли; небольшое фортепьяно с пожелтевшими клавишами едва держалось на трех ножках. Письменный стол, обтянутый истертым зеленым сукном, был весь исписан мелом; на полу валялись карты и пустые бутылки.
В углу, среди кучек табачной золы, возвышалась пирамида чубуков и изломанных рапир. На самом почетном месте висело ружье с патронташем и прочим охотничьим снарядом, а под этим трофеем, на дырявом диване, спала мохнатая собака, свернувшись кольцом.
— Вы меня извините, — учтиво продолжал Прутков, — что я вас здесь принимаю. Эта квартира еще не отделана, да и мала для меня. Я намерен на днях переехать к Леграну. Знаете, там отдается верхний этаж, а здесь, видите сами, высоко и низко. Да, как нарочно, все люди мои разошлись, не успели еще ничего убрать.
Эй вы, Федор, Сидор, Иван, — начал он кричать, — где вы, мошенники?.. Куда спрятались? Это удивительное дело, как нарочно никого нет! Садитесь, пожалуйста, на другой стул, этот, кажется, не очень надежен.
— Не извольте беспокоиться, — отвечал Иван Афанасьевич, осматривая с опасением свой стул и пересаживаясь на другой, не более надежный.
— Нет, нет… сделайте одолжение. Мне, право, совестно, что вы меня так застали. Вчера я одолжал свою комнату товарищам — и вот как они мне ее отделали. Да вы сами знаете, — продолжал он, улыбаясь, — люди молодые…
— Конечно-с… Молодость… Оно хорошее дело. Только, коли смею доложить, не всякое же дело и годится для молодости. Кто молод не бывал! Вот и я был молод-с. Только не все же и годится. Пошутить, кажется, можно… для чего же нет? Только честных барышень, дворянок, так сказать, штаб-офицерских дочерей заманивать записочками, позвольте вам доложить, не хорошо-с, право не хорошо-с!..
Эти слова выговорил Иван Афанасьевич с необыкновенной твердостью.
Молодой человек закусил губы.
— Я не понимаю, — вымолвил он, — что вам угодно.
— Мне угодно, чтоб вы дочь мою оставили в покое. Ведь, помилуйте-с, ведь она дочь моя. Ну что, в самом деле, вы в ней нашли? Она, ей-богу, не такая, не таких правил, не так воспитана. Мало ли других, скажите, в Петербурге? Ведь она без матери. Виновата ли она, что господь бог призвал мою Марью Алексеевну — царство ей небесное? Была бы покойница жива, ведь этого бы не случилось, не допустила бы она, моя голубушка… смей-ка кто сунуться! А теперь дочь-то одна у меня одинехонька дома. Я, извольте видеть, по долгу обязанности целое утро на службе в департаменте сижу. Ну, посудите сами, как же мне усмотреть, как мне, старику, угоняться за вами, молодыми людьми? Долго ли обмануть старика, ну, сами посудите, человек вы молодой. Впрочем, и то позвольте доложить: люди мы небогатые, живем не по чину, а амбиция своя все-таки есть. Да и начальство нас знает с хорошей стороны: в случае необходимости защитит, поверьте, не позволит ругаться над нами.
Прутков начал настраивать гитару.
— А где вы служите? — спросил он рассеянно.
— По соляному ведомству-с.
— И так-таки и служите? И хорошо служите?
— Не могу жаловаться.
— Награжденья получаете?
— Как же-с.
— Скажите пожалуйста, как приятно. Ну, а что же вам угодно?
— Как что-с… Да я объяснил, кажется, относительно записки.
— Какой записки?
— Да вот этой записки, — продолжал Иван Афанасьевич, подавая молодому человеку известное французское письмецо.
Прутков посмотрел записку и отдал ее старику.
— Почтенный старец, — сказал он, слегка всхлипывая, — я вхожу в ваше положение. Позвольте обнять вас… Вы мне жалки, очень жалки. Но вы ошибаетесь: я не писал этого письма, я не волочусь за молодыми девушками, это противно моим правилам. Я женат, — прибавил он шепотом.
— Вы… помилуйте… в таких молодых летах?
— Это секрет, — продолжал шутник, — не говорите никому. По некоторым причинам я должен еще скрывать свою женитьбу… Но вам, как заботливому отцу, я обязан открыться, не говорите только об этом никому…
А лучшим доказательством того, что я не мог писать записки, то, что она написана по-французски, а я никогда не мог выучиться французскому языку, как меня ни секли, — в этом могут присягнуть все мои товарищи.
— Так кто же писал? — спросил в замешательстве Иван Афанасьевич. — Мне сказала Акулина, что именно отсюда, из балыкинского дома.
— Мало ли здесь живущих! Вот внизу здесь у нас живет аптекарь. Я за ним давно замечаю. Человек уж старый, за шестьдесят, а, верите ли, такой волокита, что боже упаси! Советую вам хорошенько за ним Присмотреть. Должно быть, он, а не он, так уж, верно, другой кто-нибудь.
Иван Афанасьевич перебирал в руках шляпу и не мог собрать мыслей. Он понимал темно, что его дурачат, что ему следовало бы обидеться, но в то же время ему было не до того. Он чувствовал, что в этом молодом человеке нет прока. Писал ли он записку, не писал ли ее, все равно — на него плоха надежда. Во что бы ни стало надо спасти Настю от шалуна. И нечего делать — надо решиться, надо послушаться Дмитрия Петровича, надо принять предложение графини.
Иван Афанасьевич глубоко вздохнул и встал с места.
— Ну, извините… — сказал он медленно. — Не вы, так не вы. Ошибка в укор не ставится. Только странно, право… Как же мне это Акулина говорила, что именно отсюда. Да и записка тут. Ну, хорошо, что дочь об этом не знает. Шутка ли, благородную девицу, штаб-офицерскую дочь позорить такими пасквилями! Как узнать теперь?.. Что ты станешь тут делать?.. Ума не приложу… Ну, не вы, так не вы… Тут и говорить нечего… Извините, что побеспокоил. А если вы, так бог вам судья… у вас у самих будут дети.
Сказав это, Иван Афанасьевич печально и медленно вышел из комнаты.
Молодой человек проводил его церемонно до двери и потом, притворив дверь, начал выплясывать с ожесточением разнохарактерные танцы и кончил кувырканьем на кровати.
Новый гость застал его во время этого странного занятия.
То был тоже молодой человек, но белокурый, тщательно обстриженный и, в противоположность товарищу, щегольски опрятный. Не удивляясь нимало странным телодвижениям хозяина квартиры, он отправился в угол комнаты, приготовил себе трубку, а потом расположился у окна, нежно и беспокойно поглядывая на окна противоположного дома. У Настеньки шторы были спущены. Молодой человек вздохнул.
— Беда! — начал скороговоркой и запыхавшись Прутков. — Не говорил ли я тебе, что писать никогда не следует?
— Что случилось? — спросил белокурый.
— Твое письмо попалось в руки старику, который осчастливил меня своим посещением и вздумал было читать мне проповедь, предполагая, злодей, что я умею писать по-французски. Чуть-чуть не разжалобил меня, старый сапожник, да ты меня знаешь: своих не выдам.
Уж что другое, а на это молодец!
— Что ж он говорил тебе?
— Мало ли что!.. Что он старик, не может углядеть за дочерью, что она офицерша, что грешно заманивать молодых девушек…
— Он прав, — сказал печально белокурый.
Прутков начал смеяться.
— Зачем же ты все это делаешь?..
— Не смейся, Прутков, будь во всем добрым малым. Я чувствую себя вполне виноватым перед этим стариком. Да что ж мне делать? Началось дело шуткой… а теперь я с ума схожу. Я знаю, что ни для меня, ни для нее не может быть счастья впереди… Но когда я ее вижу — с меня довольно. Я ничего не помню, ничего знать не хочу. Я живу тройной жизнью. Мне кажется, что она одна на земле и что вся земля только для нее и создана.