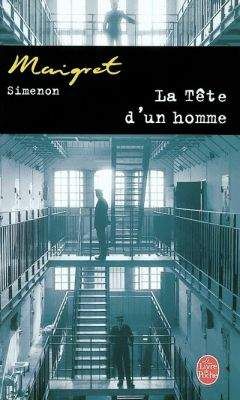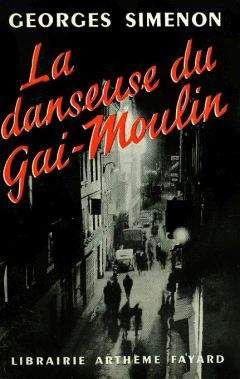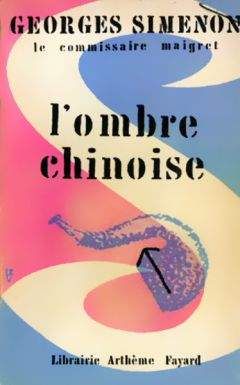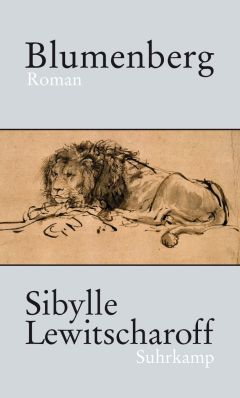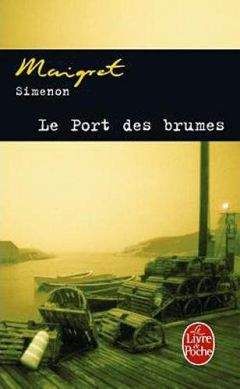Алексей Смирнов - Сибирский послушник
Прочие преподаватели помогали; сегодня вместе с Пантелеймоном служили Таврикий и Коллодий. Лицеисты чинно входили в зал, размашисто крестились на алтарь, а Коллодий, нависая над Псалтырем, монотонно бормотал бесконечную скороговорку.
Шестерка полотеров рассеялась в общей толпе; в Лицее обучалось сто с небольшим человек. Швейцер, обычно молившийся в первых рядах, не стал проходить ближе и остался стоять у входа, в ногах Чудотворца. Таврикий, скрытый от глаз в интересах таинства, включил запись. Коллодий все бормотал; грянул хор, троеперстия взметнулись ко лбам. Отец Пантелеймон вышел из алтаря и махнул кадилом, желая всем собравшимся мира. Служба началась.
Обычно ее служили строго по православному канону. Но вскоре все заметили, что сегодня в порядок внесли небольшие изменения - сократили там, сократили тут, и паства моментально поняла, в чем дело. По толпе прошло легкое волнение. Пантелеймон держался невозмутимо, его лицо не выражало никаких чувств. Пуговичные глаза смотрели прямо; в седой бородке вдумчиво округлялись ревностные губы. Однако опыт подсказывал лицеистам, что в ближайшее время служба примет совсем иной оборот. Берестецкий толкнул локтем Шконду, предлагая прислушаться: тот навострил уши и взволнованно кивнул: верно! это другая запись! И вот в необычности службы уверились все, теперь Пантелеймона никто не слушал. Все ждали первых сигналов Устроения, редких нот, которые встроятся в хор и постепенно завладеют всем музыкальным сопровождением.
Точно! Пискнула соло-гитара, квакнул бас - пока еще робко, неуверенно. Пение между тем продолжалось, как будто не обращая внимания, не снисходя до инородных звуков. Но кто-то прошелся по струнам, и бас сложился в полноправную музыкальную тему. Соло-гитара, осмелев, разродилась замысловатым вывертом. В толпе лицеистов кто-то нерешительно хлопнул в ладоши. "Бу-у-удет со всеми ва-а-ами-и-и... " - басил Пантелеймон, кланяясь и размахивая кадилом. Пуговицы ожили: в глазках священника заиграли искорки. Хор отступал, оттесняемый нескладной электронной какофонией. Хлопки участились, послышался свист. Увертюра нарастала, похожая больше на настройку инструментов перед оперным спектаклем. Задавленные ангелы были едва слышны и казались обиженными, бас растекался, подключился электроорган. И тут же, вбивая гвозди и возвещая приближение самого главного, ухнул главный барабан. Над алтарем, под самым потолком, зажглись прожекторы. Ритм учащался, гитары с органом прыгнули на колеса. Откуда-то из-за кулис выскочили Таврикий и Коллодий. Притоптывая в такт, они сорвали с отца Пантелеймона мрачные одежды и обрядили в новые, белоснежные.
- Да-а! - проорал отец Пантелеймон, расшвырял ассистентов и ударил в мохнатые ладоши.
- Да-аа! ! ! - лицеисты откликнулись немедленным ревом.
Грохот ритмичных рукоплесканий сотрясал стены. Луч прожектора сорвался с места и начал прыгать, выхватывая из полумрака то одного, то другого ученика. Но двигались только руки, танцы не допускались. Засверкала стробоскопическая лампа, в ногах Пантелеймона взорвались огни подсветки.
- Что это значит? - крикнул священник, перекрывая грохот. - Какая весть грядет к вам, блаженные чада?
- Перст!!! - ответил ему дружный вой.
- Чей это перст, други мои?
- Божий!
- Как мы его встретим?
- Возрадуемся!!
- А как мы возрадуемся?
- А-а-а-а-а!!!!..
Стены дрогнули, упала свеча, но ее проворно подхватила и заменила чья-то тень.
Луч летал, задерживаясь на лицах не дольше, чем на секунду. Всякий раз, когда он падал на лицо Швейцера, тот проваливался в пустоту, и в животе его тоже что-то обрывалось. Однако через миг, превозмогая дрожь в коленях, Швейцер уже вновь бил в ладоши, а бездна разверзалась перед кем-то другим.
Ситуацию усугублял отец Пантелеймон, который прыгал перед лицеистами и, стараясь попадать в такт лучу, тыкал в них пальцем. Праздничное одеяние, которое ассистенты успели только набросить ему на плечи, сбилось, и один рукав волочился по полу.
- Где же перст?!
Пантелеймон, словно отчаявшись, порывисто отвернулся, рухнул на колени и воздел руки к прожектору.
- Где?!! - уже без приглашения вторили ему лицеисты.
- Но мне что-то слышно! Я разбираю слова! Я прислушиваюсь к имени!
Священник приложил к уху ладонь и сделал вид, будто прислушивается.
- Громче! Громче, Господи! - возопил он.
И произошли две вещи: луч на секунду погас, а после с новой силой - но уже без прыжков, твердо и уверенно - ударил в благородный лоб Нагле. Одновременно под потолком вспыхнуло электронное табло: фамилия Нагле загорелась яркими красными буквами. Музыка оборвалась. Вокруг Нагле образовалось пустое пространство; лицеисты пятились, расступались, глядя на избранника с восторгом и ужасом. Все погрузилось во мрак, даже алтарь, остались лишь красные буквы и одинокая фигура, стоящая в центре светового круга. Несколько секунд висела тишина, затем раздался слабый вздох: вернулись ангелы. Хор медленно нарастал. К первому, главному прожектору добавился второй, за ним - третий, четвертый, седьмой, десятой. Их светом была высвечена дорожка, пролегшая от Нагле до отца Пантелеймона.
- Слава агнцу! - крикнул откуда-то отец Саллюстий.
- Постойте, постойте... - забормотал Нагле, ошеломленно озираясь. У него затряслись руки. Но отец Пантелеймон не дал ему упасть духом: раскрыл объятия и зычным голосом призвал возликовать. Не слишком надеясь на душевную крепость воспитанника, он двинулся по дорожке, дошел до Нагле и стиснул его, как надломленную тростинку.
- Господь указал на тебя, чадо, - шепнул он негромко, но шепот услышали все. - Господь избрал тебя для Устроения. Пойдем, тебе пора.
Швейцер стоял через три человека от агнца. Он думал, что лучу не хватило мгновения - еще чуть-чуть, и Пантелеймон обнимал бы уже не Нагле, а... У него застучали зубы, но не от страха, а от возбуждения. Устроение великое таинство. Бояться ли его, радоваться ли ему - никто не знал. Устроенный не возвращался никогда; с той самой секунды, когда в него упирался указующий перст, на избранника ложилась печать. Он больше не принадлежал миру простых смертных, его уста замыкались навсегда. И он, как думали многие, во что-то превращался. Каким-то образом он растворялся в Господе, прилагаясь к Его святым членам и укрепляя мощь, которая в должное время обрушится на Врага, прольется чашей гнева, преобразит мир...
Лицеисты молчали. Они уже знали, что проповеди сегодня не будет: отец Пантелеймон держался мнения, что вмешиваться в Божий промысел убогими людскими речами - непозволительное кощунство, тяжкий грех. Но этого можно было и не объяснять. Все видели, что произошло нечто исключительное. Перст указывал редко, на памяти Швейцера - всего одиннадцать раз. Он подумал, что за ужином взгляды всех будут прикованы к пустующему месту, которое еще в обед занимал ни о чем не подозревавший Нагле. И то же будет в спальне.
Полуночный заговор, химические амбиции Коха казались сейчас чем-то потусторонним.
Хор вернул себе былую силу, и даже укрепился. Отец Пантелеймон, сжимая плечо Нагле, повел лицеиста к алтарю. Избранник шел, как механическая кукла; световая дорожка, когда он делал очередной шаг, гасла за его спиной.
Нагле взошел по ступеням. Отцы Коллодий и Таврикий торжественно приблизились справа и слева. Коллодий накинул на него багровый, золотом расшитый плащ, доходивший до пола; Таврикий водрузил на голову богатую тиару. Пантелеймон придержал агнца за руку, и тот покорно остановился. Священник обернулся, преклонил одно колено, прижал руку к сердцу и склонился перед лицеистами в низком безмолвном поклоне. В тишине кто-то не к месту щелкнул пальцами. С потолка пополз бархатный занавес, отделяя алтарь с ассистентами и Нагле от прочей церкви. Когда он полностью спустился, отец Пантелеймон не изменил своей позы. Лицеисты, крестясь, потянулись на выход. Последние, которым выпало запирать двери, могли видеть, как он все стоит на колене - совсем один, то ли в скорби, то ли в глубоком благоговении.
5
Столовая была похожа на небольшой ресторан. В очередном зале - на сей раз без окон и с низким потолком - стояли столики на шесть персон. Обстановка была строгой, излишества не допускались; не было даже скатертей. Ели из расписных деревянных мисок деревянными ложками, вилок и ножей не полагалось. Обращаться с последними лицеистов учили на специальных занятиях по этикету: там выдавали настоящие фарфор и серебро.
Преподаватели столовались отдельно, в собственном погребке. Во время трапезы воспитанников один из педагогов прохаживался меж столиков и следил за порядком. Сегодня вечером дежурным оказался сонный отец Маврикий, фигура абсолютно непрошибаемая. С безучастным, полуобморочным лицом он еле передвигал ноги и казался глубоким старцем, хотя все знали, что на самом деле Маврикий находился в расцвете лет и имел шанс пережить любого коллегу, включая ректора и исключая доктора Мамонтова. Он преподавал химию, умирал на уроках, и даже успехи смышленого Коха, которыми мог бы гордиться любой учитель, оставляли его равнодушным. Маврикия не было в храме, но если бы он там был, это никак не сказалось бы на его манерах. Ничто его не радовало, ничто не страшило и не впечатляло, в том числе и самое Устроение. Как дежурный он был, в сущности, полным нулем, пустым местом, и при иных обстоятельствах лицеисты не преминули бы воспользоваться вольницей, но нынче им было не до проказ.