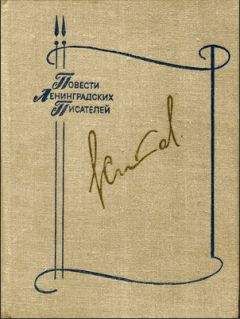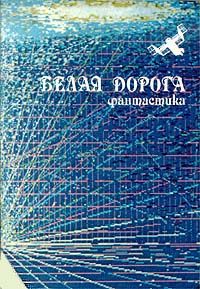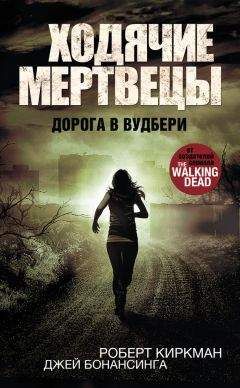Евдокия Нагродская - Белая колоннада
Она говорила все восторженней и восторженней и при последних словах припала к коленям Накатовой, охватив руками ее стан.
— Кто же он был такой? — спросила, помолчав, Накатова.
— Столяр. Он давно был к нам сослан по политическому процессу, да так и остался у нас в городе. В тюрьме и на каторге он научился столярничать, а до ссылки он саперным офицером был. Вот в прошлом году он умер, так светло, радостно умер, что я ни жалеть, ни плакать о нем не смею, а его так любила! Больше всех на свете, и вот теперь эту огромную любовь могу всем дать, со всеми поделиться, все приходите! Она как огонь — сколько ни бери, все будет столько же!
Таля взмахнула широко руками и засмеялась счастливым смехом.
— Если мы подружимся, я вам много, много расскажу, — прибавила она. — Вам не скучно меня слушать?
— Нет, нет, Таля, мне не скучно, — поспешно сказала Накатова, сжимая руку девушки.
Она глубоко задумалась и неподвижным взглядом смотрела в окно, где на небе, слабо освещенном заревом города, темными силуэтами выделялись контуры Исаакия.
Таля тоже сидела молча, опять положив голову на колени Екатерины Антоновны. Шаги и голоса в коридоре заставили вздрогнуть Накатову, она спохватилась, что уже шестой час, пора домой, что к обеду у нее гости и Лопатов. Она заторопилась.
Таля, помогая ей одеваться, весело болтала:
— А я сегодня во французский театр пойду! Мне одна барышня уступила билет на галерею. Мирончик очень любит, когда я бываю в театре, я ему потом все в лицах разыгрываю. Наверное, увижу самые модные туалеты и сестре напишу, моя сестра страшно туалеты любит… Теперь платья носят с такими коротенькими кринолинчиками. Мне на журнале показалось безобразным, а вправду оказалось очень красиво. У вас есть платье с кринолинчиком? Ах, вы мне покажите, когда я к вам приду, и вы приходите скорей ко мне. Что? Обедать? Вот славно, я давно как следует не обедала… А у вас кринолинчик чем обшит? Очень красиво, когда обшивать мехом, — болтала она, перегнувшись через перила, пока Накатова спускалась с лестницы.
— Сохрани вас Господь, — вдруг неожиданно заключила Таля и, перекрестив широким крестом Накатову, скрылась.
Лопатов за обедом был в довольно скверном настроении духа, и Екатерину Антоновну это расстраивало. Ей захотелось загладить утреннюю ссору, которой она приписывала его расположение духа.
Она так этим волновалась, что едва могла исполнять свою роль внимательной и любезной хозяйки.
Едва гости разошлись, она опустилась на колени перед Лопатовым и заговорила ласково:
— Простите меня, Николенька, я сознаю, что была несносна. Не все ли равно, какие будут портьеры.
— Полно, Китти, — засмеялся он, — хорошенькая женщина должна иметь капризы, это так естественно.
— Нет, нет, не то… не говорите так! Я огорчена тем, что наш спор имел вид ссоры из-за такого пустяка.
Она обняла его и прижалась лицом к его груди.
— Не будем об этом вспоминать! — весело сказал он. — Если вы подумаете хорошенько, вы увидите, что вишневый цвет гораздо красивее и оживит комнату.
— Да, да, — шептала она, еще тесней прижимаясь к его груди. Она чувствовала, что ее любовь охватывает ее все сильнее и сильнее, что счастливые радостные слезы подступают к горлу от сознания, что он здесь, с ней, любит ее. — Я вас так люблю, Николенька, — прошептала она.
— Так, значит, мы решили сделать портьеры вишневые… Я сейчас позвоню обойщику по телефону. Я знал, что вы сами, подумав, это поймете.
Слезы Накатовой как-то остановились в горле, под своей пылающей щекой она сразу почувствовала жесткое сукно его сюртука.
Она шевельнулась, подняла голову, взглянула ему в лицо, потом поднялась и тихо сказала:
— Да, позвоните. Мне все равно.
Пока он вел разговор с обойщиком, она медленно ходила из угла в угол, твердя про себя: «Ну вишневые — так вишневые».
Лопатов ушел рано, ему нужно было ехать на какой-то товарищеский ужин.
Накатова всегда чувствовала пустоту, когда он уходил, особенно по вечерам ей хотелось, чтобы он был тут, с нею. Ее огорчало, что, собственно говоря, он мало уделяет ей времени.
Он бы мог меньше бывать со своими товарищами: ведь товарищи не могут обижаться на то, что он не принимает участия в их пирушках, они знают, что он жених.
Она думала это, сидя в уголку дивана, поджав ноги и устремив глаза в пылающий камин.
От камина по комнате ходили тени, и красный круг на паркете то темнел, то ширился и светлел. В этом освещении было что-то уютное и в то же время тревожное.
Отчего он не остался? Товарищеский ужин затянется до утра, он мог бы посидеть с ней хоть до двух часов и не опоздать. Посидеть вот тут, у камина, в этой милой комнате и тихо, тихо она бы говорила ему о своей любви.
Накатова опустила голову на подушку и закрыла глаза.
Отчего ласки его так сдержанны? Отчего он ни разу не забылся, не потерял голову от ее поцелуев.
Она всегда возмущалась, когда ее поклонники позволяли себе хоть одно слишком страстное слово, но ему она дает право! Ведь их любовь прочная, это не флирт, не ухаживание, не интрижка — это любовь.
— Моя любовь не нуждается в словах. Настоящая любовь «молчалива», — сказал он ей, но неужели ее любовь не настоящая? Ведь ей постоянно хочется говорить ему о ней, ей хочется давать ласковые названия… Ей хочется настоящих (не «почтительных») поцелуев. Пусть он дерзко и грубо обнимет ее — она простит ему это.
Перед закрытыми глазами Накатовой плывут зеленые пятна, в горле сворачивается комок слез, вот-вот она сейчас заплачет.
В дверь слышен стук.
«Неужели вернулся? Милый!»
Но появился Семен.
— Георгий Владимирович спрашивают, не слишком ли поздно и примет ли его барыня, — почтительно докладывает он.
— Просите, — говорит она равнодушно. Пусть идет кузен Жорж, — все же лучше сидеть с ним, чем одной и рыться в своей душе, тем более что вот уже больше месяца, с самой своей помолвки, она не видела кузена Жоржа.
Жорж входит, спрашивает о ее здоровье, извиняется за позднее посещение, целует у нее руку и садится у камина.
— Ну, расскажите что-нибудь, Жоржик, — говорит она лениво, — расскажите, что делается в балете? Ах да, теперь, я слышала, у вас с балетом покончено и на очереди оперетка… Я слышала, что вчера ставили какую-то новинку, вы ее видели?
— Да, видел, — отвечает Жорж.
— Стоит посмотреть или не стоит?
— Как вам сказать… я не знаю… по-моему, не стоит. Впрочем, она, кажется, имела успех.
Странный тон, которым говорит Жорж, заставляет Екатерину Антоновну пристальней вглядеться, и она замечает какую-то странную перемену в лице кузена.
Пробор его так же безукоризнен, лицо так же гладко выбрито, монокль плотно держится в глазу, и Накатова не может уловить, в чем состоит эта перемена,
Не то он похудел и осунулся, не то похорошел.
Сидел он спокойно, заложив ногу на ногу и сложив на колене руки, пристально смотрел в огонь.
— Что с вами, Жорж? — спросила она невольно.
Жорж вздрогнул и вдруг не свойственным ему тоном тихой жалобы, заговорил:
— Скучно, кузина, все как-то надоело — даже противно, словно все окружающее видишь в другие очки, и все не нравится… Хорошо бы было что-то изменить в себе и в других. А что, неизвестно.
— Бедный Жорж, у вас сплин, — засмеялась она.
— Нет, это не сплин… Вы знаете, Катюша, я вас очень люблю и ужасно рад, что вы не вышли за меня замуж, когда я вам делал предложение.
— Почему? — спросила она, немного удивленная.
— Можно мне говорить с вами откровенно, вы не обидитесь?
— Конечно, нет.
— Вы, Катюша, очень красивая женщина, но как женщина вы мне никогда не нравились.
— Так зачем же вы столько лет изображали влюбленного? — спросила она, вдруг странно задетая.
— Зачем? Я вам этого не скажу, очень уж чувства и мысли мои некрасивы — мне даже вспоминать о них стыдно… Вообще, все чувства, все мои мысли всегда были либо пошлы и глупы, либо скверны, но вчера со мною случилась странная вещь, и вдруг стало тошно смотреть на себя самого и на окружающее, — понимаете, физически тошно.
Жорж неожиданно хрустнул пальцами.
— Что же случилось с вами?
— Собственно говоря, ничего не случилось, но все это… Катюша, милая, ведь вы меня знаете как свои пять пальцев, мне не надо ломаться перед вами и что-то разыгрывать. Мне вот захотелось прийти к вам и поговорить по душе. Все равно вы уж знаете меня. Как человеку с каким-нибудь физическим недостатком легче раздеваться перед людьми, которые все равно уж об этом знают.
Он встал, постоял несколько минут, словно собираясь с духом, потом опять опустился в кресло. Екатерина Антоновна смотрела на него, улыбалась, и насмешливо спросила:
— Что это еще за новый жанр? Самоунижение?
— Не думайте, Катюша, что я опять ломаюсь, и мне, право, не до этого. Вы умная женщина, вы всегда меня понимали, ценили по заслугам, т. е. не особенно высоко, так поймите меня и теперь. Вы меня всегда насквозь видели и всегда осуждали, и не любили, а я вас всегда очень любил — даже, пожалуй, больше всех на свете.