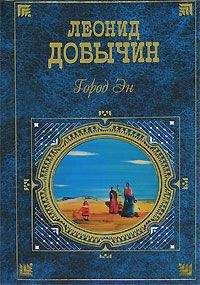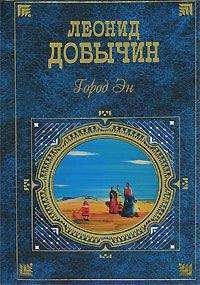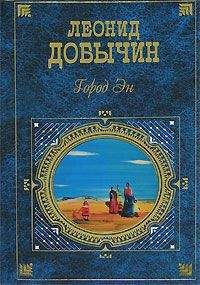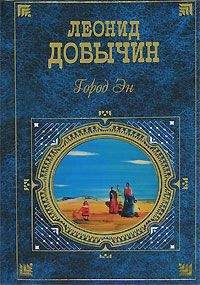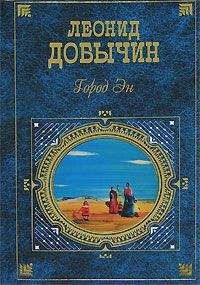Леонид Добычин - Шуркина родня
Там они долго советовались. Потом, выйдя, они объявили, что, кажется, скоро уже будет мир.
Закусив, дед уехал, а Петька не вытерпел и рассказал, что царя больше нет.
Неожиданно им через несколько дней написала Авдотья. «Теперь-то ужо, – рассуждала она, – верно, скоро отпустят солдат. Он приедет, и я возьму Шурку».
Она сообщила еще, что на Масленице ее мать умерла.
Прочитав это, дед рассказал про нее, как она с мужем бросила жребий и ей выпала первая смерть. Все дивились, а Шурка был горд, что история эта произошла с его родственницей.
– Это что, – похвалялся он, – там и не то еще было, – и он принимался описывать им смерть Губочкиной.
Между тем время шло, а война не кончалась, и дед привозил неприятные новости: черный народ разнахальничался, стал завидовать тем, кто себе что-нибудь заработал, и грабить.
– Сын Петр, – учил он, – сейчас надо жить незаметно, ни в долг не давать никому, ни в аренду не брать ничего, а возделывать, не суетясь, свой надел… Шурка будет тебе помогать.
– Это да, – кивал Шурка, – могу.
Пришло время, и они вышли в поле вдвоем. Они жили в палатке, варили еду на кострах и ложились по очереди, чтобы жулики не увели лошадей.
Раз к палатке явился верблюд из села, куда ездили в церковь, хотел стащить хлеб и свалил ее. Было о чем рассказать потом.
Бабка, когда на короткое время они приезжали домой, умилялась.
– Голубчик ты мой, – говорила она, – помогаешь, – и Шурка был рад и, довольный, примерно держал себя, не удирал, приносил в дом пользу, смотрел, не попала ли в воду та курица, которая водит гусят, или гнал с огорода теленка.
Однажды теленок напал на него и, сбив с ног, стал бодать, а молодка, ходившая глянуть, готова ли баня, спасла его. Бабка дала ему выпить крещенской воды, с него сняли рубаху, надели ее на него назад пуговицами и велели ему полежать. Потом бабка отправилась в баню и Шурку взяла с собой. Мыла тогда уже не было. Мылись раствором, в котором мочили овчины, и шерсть попадалась в нем.
Осень прошла. Наступила зима. Дед по-прежнему по понедельникам ездил в контору, потом приезжал по субботам и вечером, сидя за чаем, беседовал и наставлял.
– Мир навряд ли теперь будет скоро, – однажды сказал он. – Самара уже государство, другие города – то же самое. Этак у нас без конца будет свалка.
Тут Петька вскочил, покраснел и стал бить себя по раскрытой груди кулаком.
– Так и нам без конца, – закричал он, – урезать себя, скаредничать и все делать самим?
Дед приподнял ладони, а голову, кротко вздохнув, он склонил на плечо.
– Сын мой Петр, – согласился он, – да, это очень обидно. Но что можно сделать? Потерпим еще.
Он приехал один раз в большом беспокойстве.
– Петр, вот что приходит мне в голову, – сразу сказал он. – Ты слышишь одним только ухом. В России тебя отпустили домой. Но как будет в Самаре? Не вздумает ли она тебя снова забрать?
Озабоченные, они совещались весь день и решили, что дед съездит к доктору Марьину и потолкует с ним.
Выждали несколько, чтобы подсохло, и дед, отпросясь из конторы и взяв с собой Шурку и короб с харчами, отправился.
До Земляного они продремали в телеге с высокими стенками.
Сонные, они слышали по временам, как колеса то бойко стучат по хорошей дороге, то с скрипом ворочаются по пескам.
Ночевать они думали у Исламкулова, но он ходил с тюком по селам, и, разочарованные, они с своим коробом двинулись на постоялый, и их уложили там в комнате с картой войны на стене и с наклеенными вокруг карты бумажками от карамели «Крючков».
А в Богатом хозяйка заезжей узнала их и, подавая им чайники, поудивлялась, что Шурка подрос. Он моргнул ей и выстрелил молодцевато слюной через дырку в зубах.
Из Богатого выехали на рассвете и днем были дома. В сенях, как и прежде, стояла кадушка с водой и висела парадная сбруя. Зеленые вожжи уже стали серыми.
В кухне сидел дед Матвей и читал, а девчонка, которую отвозили к просвирне, писала.
Она была жилистая, с длинным носом – в Евграфыча и в Евграфычевых сыновей.
Мать была в это время на станции – сделала студень и с младшим мальчишкой пошла продавать.
Возвратясь, она ахнула. – Шурка, – бросаясь к нему, закричала она и, схватив, подняла его.
Высвободясь, он утерся рукой. Младший брат подошел к нему и, приставив каблук к каблуку, отдал честь.
– Ну, – сказал дед Евграфыч, – что нового?
Мать рассказала про бабку, и он покачал головой. Снова вспомнили Губочкину.
Аверьян, оказалось, уже больше не жил здесь. Осенью он перешел к машинисту Скворцову в зятья.
– Говорят, – подмигнула Авдотья, – что Ольгу Суконкину видели в церкви во время венчанья. Она грызла руки от злости.
Когда пообедали и дед Евграфыч всхрапнул, он сказал: – Ну-ка, Шурка, я вез тебя, ты же меня поведи. – И опять, как два года назад, все смеялись.
– Идем, – кивнул Шурка. Они собрались и отправились к Марьину, но не застали его.
Возвращаясь, они загляделись на девку в бушлате и розовом фартуке, несшую в каждой руке по скамье.
– Интересно, – сказал дед, – куда это.
Девка вошла, отдуваясь, в какой-то амбар или бывшую лавку, широкие двери которого были открыты, и стала стучать, устанавливая там свои две скамьи.
– Заглянем? – оживляясь и надевая пенсне, спросил дед, и они завернули туда.
Там сидели мальчишки и взрослые, ерзали и перешептывались. На стенах были белые вывески. Шурка, показав на них пальцем, спросил, что там пишется.
– Это мы мигом узнаем, – сказал ему дед, почитал и ответил:
– Божественное.
Впереди стоял столик с водой. Вдруг за ним очутился мужчина из немцев, напился, утер рот платком и сказал, что сейчас здесь незримо присутствует сам дорогой наш господь.
Потом спели по книжечкам песню с припевом «открой»:
Как олень молодой
По тропинке лесной
К ручейку спешит,
Иисус святой
В сердце твое стучит:
Открой!
– и мужчина у столика стал разъяснять о «рабе», что не больше он, чем господин, а, напротив того, должен слушаться своего господина со страхом и трепетом.
Снова попели, прошла вперед немка в седых завитушках и встала у столика.
– Счастье, – сказала она, – в громкогласной молитве. Оно недоступно для тех, кого дьяволы держат за губы.
Таких людей участь – плачевна.
Она проницательно всех оглядела и вызвалась, если здесь есть кто-нибудь из таких, помолиться с ним вместе о его исцелении.
– Есть, я, – объявила, встав, девка в бушлате.
– Идитe сюда, – пригласила целительница и с небесной улыбкой ждала.
Вдруг ее кто-то облил чернилами. Визг поднялся. Все повскакивали. Одна лампа погасла.
– Ох, сил нет, – сказал деду Шурка и вышел на улицу похохотать.
Он узнал там, что скандал этот сделал Егорка, сын Ваньки Акимочкина.
– Молодчина, – хвалил его Шурка, гордясь, – прямо в харю попал. Он наш родственник.
Утром Евграфыч сходил один к Марьину. Марьин его обнадежил.
– Всё в наших руках, – похвалился он.
Дед удивился приятно. Они сговорились, прощаясь, что Петька приедет сюда.
10
Мать выходила к поездам с харчами. Шурка помогал ей.
Он смотрел за покупателями, чтобы как-нибудь они не изловчились и чего-нибудь не сперли.
Он пилил дрова, колол их, носил в дом, ходил на живодерню за ногами и рубил их на полу в корыте.
Мать варила из них студень для продажи, а мослы наваливала на кухонный стол, и вся семья садилась и обгладывала их.
– Все Шуркина работа, – приговаривала мать. – Он как отец у нас, на нем дом держится, – и всюду его расхваливала.
В среду на Страстной неделе был большой базар, и Мандриков приехал на него с горшками. Теща главного была там и купила у него кувшин для молока. Он попросил ее сказать Авдотье, что есть новость для нее, известие, которое не лишено значительного интереса.
Через час Авдотья прибежала туда и остановилась у его телеги, запыхавшаяся и парадная, с кораллами на шее. Ее синее сатиновое платье уже вылиняло, черный кружевной платок стал рыжим.
– Здравствуйте, – сказала она Мандрикову, и тогда он сообщил ей, что произошло с Евграфычем, когда он выехал отсюда: в Земляном он ночевал у Исламкулова, а к Исламкулову залезли воры и зарезали обоих. Александрыч в это время жил в той стороне – и вот вчера рассказывал.
В день Пасхи встали поздно и, принарядясь, отправились на кладбище. Христосовались с встречными и разговаривали с ними о Мусульманкуле и Евграфыче. Добравшись, покрошили красное яйцо и ломтик кулича на бабкину могилу, чтобы воробьи слетались туда и клевали. Возвращаясь, потрезвонили на колокольне, а когда пришли домой, явился Аверьян – поздравить.
Дед с ним выпил синенького, и они поговорили про Евграфыча и вспомнили другие смерти – бабкину и Губочкиной, и потолковали об Иване – как он затевал присвоить этот дом, и как на материны похороны прибыл прямо в церковь, а на панихиды, певшиеся в доме, носа не казал.