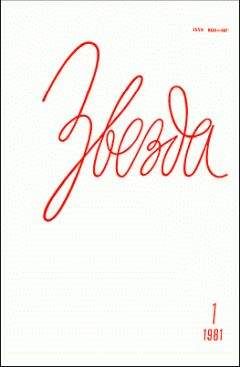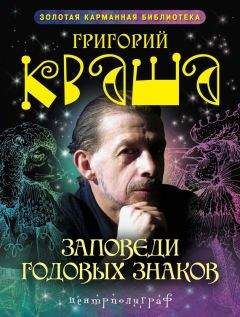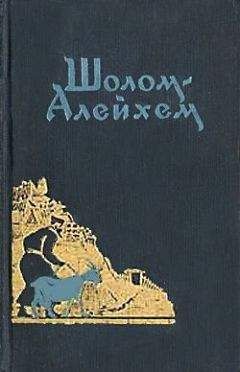Владислав Ходасевич - Есенин
Средь людей я дружбы не имею.
Я иному покорился царству.
Каждому здесь кобелю на шею
Я готов отдать мой лучший галстук.
К опозорившим себя революционерам он не пристал, а от родной деревни отстал.
Да! теперь решено! Без возврата
Я покинул родные поля.
.................................................................
Я читаю стихи проституткам
И с бандитами жарю спирт.
..................................................................
Я уж готов. Я робкий.
Глянь на бутылок рать!
Я собираю пробки
Душу мою затыкать.
В литературе он примкнул к таким же кругам, к людям, которым терять нечего, к поэтическому босячеству. Есенина затащили в имажинизм, как затаскивали в кабак. Своим талантом он скрашивал выступления бездарных имажинистов, они питались за счет его имени, как кабацкая голь за счет загулявшего богача.
Падая все ниже, как будто нарочно стремясь удариться о самое дно, прикоснуться к последней грязи тогдашней Москвы, он женился. На этой полосе его жизни я не буду останавливаться подробно. Она слишком общеизвестна. Свадебная поездка Есенина и Дункан превратилась в хулиганское "турнэ" по Европе и Америке, кончившееся разводом. Есенин вернулся в Россию. Начался его последний период, характеризуемый быстрой сменой настроений.
Прежде всего Есенин, по-видимому, захотел успокоиться и очиститься от налипшей грязи. Зазвучала в нем грустная примиренность, покорность судьбе и мысли, конечно, сразу обратились к деревне:
Я усталым таким еще не был.
В эту серую морозь и слизь
Мне приснилось рязанское небо
И моя непутевая жизнь.
....................................................................
И во мне, вот по тем же законам,
Умиряется бешеный пыл.
Но и все ж отношусь я с поклоном
К тем полям, что когда-то любил.
В те края, где я рос под кленом,
Где резвился на желтой траве,
Шлю привет воробьям и воронам,
И рыдающей в ночь сове.
Я кричу им в весенние дали:
"Птицы милые, в синюю дрожь
Передайте, что я отскандалил..."
.....................................................................
Он пишет глубоко задушевное "Письмо к матери":
Пишут мне, что ты, тая тревогу,
Загрустила шибко обо мне,
Что ты часто ходишь на дорогу
В старомодном, ветхом шушуне.
И тебе в вечернем синем мраке
Часто видится одно и то ж:
Будто кто-то мне в кабацкой драке
Саданул под сердце финский нож.
...................................................................
Не буди того, что отмечталось,
Не волнуй того, что не сбылось,
Слишком раннюю утрату и усталость
Испытать мне в жизни привелось.
Наконец он и в самом деле поехал в родную деревню, которой не видал много лет. Тут ждало его последнее разочарование - самое тяжкое, в сравнении с которым все бывшие раньше - ничто.
***
Перед самой революцией, в декабре 1916 года, крестьянский поэт Александр Ширяевец14, ныне тоже покойный, прислал мне свой сборник "Запевки", с просьбой высказать о нем мое мнение. Я прочел книжку и написал Ширяевцу, указав откровенно, что не понимаю, как могут "писатели из народа", знающие мужика лучше, чем мы, интеллигенты, изображать этого мужика каким-то сказочным добрым молодцем, вроде Чурилы Пленковича15, в шелковых лапотках. Ведь такой мужик, какого живописуют крестьянские поэты, - вряд ли когда и был, - и, уж во всяком случае, больше его нет и не будет. 7 января 1917 года Ширяевец мне ответил таким письмом:
"Многоуважаемый Владислав Фелицианович!
Очень благодарен Вам за письмо Ваше. Напрасно думаете, что буду "гневаться" за высказанное Вами, - наоборот, рад, что слышу искренние слова.
Скажу кое-что в свою защиту. Отлично знаю, что такого народа, о каком поют Клюев, Клычков, Есенин и я, скоро не будет, но не потому ли он и так дорог нам, что его скоро не будет?.. И что прекраснее: прежний Чурила в шелковых лапотках, с припевками да присказками, или нынешнего дня Чурила, в американских щиблетах, с Карлом Марксом или "Летописью"16 в руках, захлебывающийся от открываемых там истин?.. Ей-Богу, прежний мне милее!.. Знаю, что там, где были русалочьи омуты, скоро поставят купальни для лиц обоего пола, со всеми удобствами, но мне все же милее омуты, а не купальни... Ведь не так-то легко расстаться с тем, чем жили мы несколько веков! Да и как не уйти в старину от теперешней неразберихи, ото всех этих истерических воплей, называемых торжественно "лозунгами"... Пусть уж о прелестях современности пишет Брюсов, а я поищу Жар-Птицу, пойду к тургеневским усадьбам, несмотря на то, что в этих самых усадьбах предков моих били смертным боем. Ну как не очароваться такими картинками?..*
И этого не будет! Придет предприимчивый человек и построит (уничтожив мельницу) какой-нибудь "Гранд-отель", а потом тут вырастет город с фабричными трубами... И сейчас уж у лазоревого плеса сидит стриженая курсистка, или с Вейнингером17 в руках, или с "Ключами счастья"18.
Извините, что отвлекаюсь, Владислав Фелицианович. Может быть, чушь несу я страшную, это все потому, что не люблю я современности окаянной, уничтожившей сказку, а без сказки какое житье на свете?..
Очень ценны мысли Ваши, и согласен я с ними, но пока потопчусь на старом месте, около мельниковой дочери, а не стриженой курсистки. О современном, о будущем пусть поют более сильные голоса, мой слаб для этого..."**
Когда Ширяевец мне писал: "Отлично знаю, что такого народа, о каком поют Клюев, Клычков, Есенин и я, скоро не будет", - знал ли он, что в действительности не только скоро не будет, а уже нет, а вернее - совершенно такого былинно-песенного "народа" никогда и не было? Думаю, знал, - но старался эту мысль гнать от себя: жил верою в идеального мужика, в "сказку", - "а без сказки какое житье на свете?".
Ширяевец не напрасно упомянул Есенина: весь пафос есенинской поэзии был основан на вере в этот воображаемый "народ". И Есенин жил "в сказке", лучшей страницей которой была Инония, светлый град, воздвигаемый мужиком.
Первый удар мечте нанесен был еще до женитьбы Есенина. Но мы уже видели, что тогда Есенин не отважился признать правду: все несоответствие между мечтой и действительностью он не только свалил на вторжение города в жизнь деревни, но и продолжал верить, будто это вторжение лишь механично и ничего не меняет в сущности деревни. Ему даже мерещилось, что придет пора деревня захочет и сумеет за себя постоять. Теперь, после долгого отсутствия, вновь приехав в деревню, Есенин увидел всю правду. "Вновь посетив родимые места", он с ужасом замечает:
Какое множество открытий
За мною следовало по пятам!
Сперва он не узнает местности. Потом - не сразу находит дом матери. Потом, встретив прохожего, не узнает в нем родного деда, того самого, которого он некогда так ясно себе представлял сидящим в раю "под Маврикийским дубом". Потом узнает, что сестры стали комсомолками, что "на церкви комиссар снял крест". Пришли домой - он видит: "на стенке календарный Ленин". И вот
Чем мать и дед грустней и безнадежней,
Тем веселей сестры смеется рот.
Сестра же, "раскрыв, как Библию, пузатый "Капитал", - "разводит" ему "о Марксе, Энгельсе":
Ни при какой погоде
Я этих книг, конечно, не читал.
И, слушая сестрины речи, он вспоминает, как еще при его приближении к дому
По-байроновски, наша собачонка
Меня встречает лаем у ворот.
Как видим, дед и мать, безнадежно глядящие на сестер, представляются Есенину последними носителями мужицкой правды: Есенин утешается тем, что хоть в прошлом - эта правда все же существовала. Но в стихотворении "Русь советская", получившем такую широкую известность, Есенин идет еще дальше: он прямо говорит, что ни в чьих глазах не находит себе приюта - ни у молодых, ни даже у стариков. Той Руси деревянной, из которой должна была возникнуть Инония, - нет. Есть - грубая, жестокая, пошлая "Русь советская", распевающая "агитки Бедного Демьяна". И Есенину впервые является мысль о том, что не только нет, но, может быть, никогда и не было той Руси, о которой он пел, что его вера в свое посланничество от "народа" - была заблуждением:
Вот так страна! Какого ж я рожна
Орал в стихах, что я с народом дружен?
Моя поэзия здесь больше не нужна,
Да и, пожалуй, сам я тоже здесь не нужен.
Он прощается с деревней, обещая смиренно "принять" действительность, как она есть. Теперь кончены не только мечты об Инонии (это случилось раньше) - теперь оказалось, что Инонии неоткуда было и взяться: мечтой оказалась сама идеальная, избяная Русь.
Но смирение Есенина оказалось непрочно. Вернувшись в Москву, глубоко погрузясь в нэповское болото (за границу уехал он в самом начале нэпа), ощутив всю позорную разницу между большевицкими лозунгами и советской действительностью даже в городе, - Есенин впал в злобу. Он снова запил, и его пьяные скандалы сперва приняли форму антисемитских выходок. Тут отчасти заговорила в нем старая закваска, и злоба Есенина вылилась в самой грубой и примитивной форме. Он (и Клычков, принимавший участие в этих скандалах) были привлечены к общественному суду19, который состоялся в так называемом "Доме Печати". О бестактности и унизительности, которыми сопровождался суд, сейчас рассказывать преждевременно. Есенина и Клычкова "простили". Тогда начались кабацкие выступления характера антисоветского. Один из судей, Андрей Соболь20, впоследствии тоже покончивший с собой, рассказывал мне в начале 1925 года, в Италии, что так "крыть" большевиков, как это публично делал Есенин, не могло и в голову прийти никому в советской России; всякий сказавший десятую долю того, что говорил Есенин, давно был бы расстрелян. Относительно же Есенина был только отдан в 1924 году приказ по милиции доставлять в участок для вытрезвления и отпускать, не давая делу дальнейшего хода. Вскоре все милиционеры центральных участков знали Есенина в лицо. Конечно, приказ был отдан не из любви к Есенину и не в заботах о судьбе русских писателей, а из соображений престижа: не хотели подчеркивать и официально признавать "расхождения" между "рабоче-крестьянской" властью и поэтом, имевшим репутацию крестьянского.