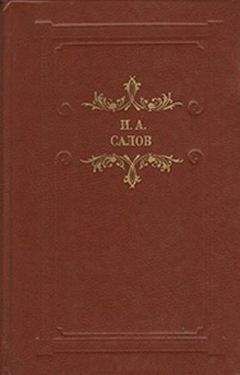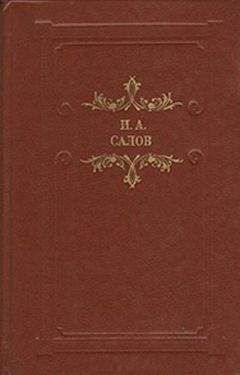Илья Салов - Паук
— Вверх брюхом? — заметил дьякон.
— Именно что вверх брюхом.
И Орешкин сделал руками жест, объяснявший, как именно дело перевернулось. Проделав штуку эту, он снова начал:
— Надо вам сказать, что Брюханов давно уже точил зубы на нашу мельницу; он даже предлагал когда-то нам за нее семьдесят пять тысяч, но так как продавать мельницу нам не было надобности, то он и порешил теперь воспользоваться случаем и на этот раз приобрести ее уже не за семьдесят пять тысяч, а за сорок, то есть за ту именно сумму, за которую она была заложена Хряпову. С этой целью, приняв опеку, он тут же заварил с Хряповым такие неприятности и дрязги, что вынудил его подать закладную ко взысканию. Согласитесь сами, кому же охота за свои деньги чуть не каждый день вести войну с опекуном. Понятное дело, всякое терпение лопнет. Этого только Брюханов и добивался, и как только проведал, что закладная подана ко взысканию, так он в ту же минуту марш в город к Хряпову. Надо вам сказать, что Хряпов постоянно жил в городе, мельничных дел не понимал и в деревне отродясь не жил. «Вы закладную-то, слышь, ко взысканию подали?» — спрашивает его Брюханов. «Да, говорит, подал». — «Вы чего именно желаете? — спрашивает опять Брюханов. — Мельницу ли за собой оставить, или же только свои деньги выручить?» — «Известно, мне деньги нужны, — говорит Хряпов. — На кой мне мельница! я с мельницей и справиться-то не сумею!» — «И очень хорошо придумали, — говорит Брюханов. — А потому позвольте предложить следующую комбинацию: мне, как опекуну, мельницу купить нельзя, но вы оставьте ее за собой, а затем я вручу вам деньги, а мельницу вы продадите мне от себя уж». Ударили по рукам и расстались. На торги Брюханов прислал своего сына. Тот для виду накинул сотню-другую и — шабаш; мельница и осталась, конечно, за Хряповым. Брюханов рад-радешенек! Кладет в карман деньги и марш к Хряпову. Но тут произошло нечто такое, чего Брюханов даже и не ожидал.
— Вор у вора дубинку украл! — вскрикнул дьякон, да так громко, что Орешкин даже вздрогнул.
— Эка у тебя глотка-то какая! — проговорил он. — Перепугал даже.
Дьякон захохотал во все горло. Он рад был похвастаться голосом.
— Что же случилось-то? — спросил я, заинтересованный рассказом.
— А то, что Хряпов, смекнув, в чем дело, мельницу оставил за собой. Неудача эта разозлила Брюханова. Он всячески принялся ругать Хряпова: называл его разбойником, ограбившим сирот малолетних, и поклялся отомстить за них. Долго не показывался нам Брюханов: мы все, конечно, ходим, как убитые, вдова плачет, жена плачет, старушка родительница тоже… Только однажды, смотрим, едет к нам Брюханов. Приехал, прикинулся таким добрым, ласковым и говорит мне: «Ну, брат, мельницы мы лишились. Я было хотел ее перекупить у Хряпова, чтобы после опять вам передать, но разбойник надул. Я виноват тем, что поверил честному слову его, и за это за самое должен вину свою исправить. Надо, братец, сирот пожалеть, ведь они с голоду помрут. Все это время я ночи не спал, об вас думал. Ты вот что сделай. Ты им дядя родной; человек ты добрый… Ты уступи им из своего участка двести десятин, а за это я так устрою твои собственные дела, что у тебя никаких долгов не будет!» — «Как же это так?» — спрашиваю его. «Очень, говорит, просто. Ты, говорит, надавай мне побольше векселей безденежных, я тихохонько представлю их ко взысканию, получу исполнительные листы, а ты тем временем в поземельный банк процентов-то не плати и доведи имение свое до аукционной продажи. Когда торги будут назначены, я отправлюсь в Питер и имение твое куплю. Если что-нибудь переплачу, то я повладею твоим участком, выберу свои деньги, а потом по купчей крепости двести десятин передам сиротам, а остальную тысячу десятин твоей жене. Вот кредиторы твои и останутся ни при чем, а у твоей жены-то да у сирот-то будут чистенькие участочки без долгов, без хлопот, и заживете вы припеваючи да меня всю жизнь добром поминаючи! Подумай, говорит, ведь у тебя десять человек детей! Коли ты этого не сделаешь, то ведь кредиторы не нынче, так завтра оберут тебя, и тебе с малыми детьми жрать нечего будет! Ведь мельницы-то у тебя нет теперь, денег-то ждать неоткуда!..» Выслушал я эти его речи, раскинул умишком и сообразил, что действительно комбинация, заслуживающая уважения. Только опасался я, как бы этот самый благодетель не понагрел меня: стелет-то он мягко, только спать-то не жестко ли будет! Усомнился, значит. Брюханов сметил это. Пошел к старухе родительнице, пошел к моей жене, к братниной вдове, развел перед ними всю эту антимонию да и напустил их всех на меня. Бабы в голос завыли: «Да что же это ты делаешь! Да что же ты по миру нас, что ли, с малыми сиротами пустить хочешь! Сердца, что ли, в тебе нет! Али ты извел его на свои дурацкие романы! Положись во всем на благодетеля. Что он, худа, что ли, желает нам! Чай, не чужой человек! В твоей земле, что ли, нуждается он! Поди-кась невидаль какая! У него и своей-то царство целое, а денег-то куры не клевали, а ты сомневаешься, дуралей лысый!» Брюханов тут же по комнате ходит, закинул руки за спину и на меня с презрением смотрит. «Свинья, дескать, больше ничего!» Я сдался. «Ну, ладно, говорю, векселя я тебе выдам на какую угодно сумму, только с тем, чтобы и ты мне хошь расписочку какую-нибудь дал, для памяти!» Но Брюханов даже и кончить не дал. «А! так ты вот как! — закричал он и словно рак красный стал. — Ты вот как! Ну, так черт с тобой, плевать я на тебя хотел. Не веришь — и не надоть!» Взял шапку, сел в тарантас и был таков. Целую неделю бабы не давали мне покою; мало того, детей всех настрочили. Только, бывало, встанешь, романчик какой-нибудь возьмешь, уединишься куда-нибудь, а они все гурьбой окружат и завопят: «Поезжай, повинись перед благодетелем, повинись, не дай нам с голоду помереть!» Да так-то весь божий день! Ночи, бывало, ждешь не дождешься, отдохнуть думаешь, а ночью жена пилить начнет. Задумаешь, грешным делом, поласкаться к ней, а она тебя ногой лягнет: «Нечего, говорит, приставать, коли не любишь!» Что тут будешь делать! Пришлось идти с повинной… и пошел! Прихожу на мельницу, а он так в домике гуляет во всю руку. Бабы, девки вокруг него. Все это пьяно, кричит, в ладоши хлопает. Бабы пляшут, девки у него на коленях сидят. Самойла Иваныч на гармонике валяет. Увидал меня Брюханов и закричал во все горло: «А! это ты, лысая собака! Что, аль с повинной?» — «С повинной», — говорю. «Нет, говорит, врешь, подлец, теперь уж я не хочу. Тогда ты не хотел, а теперь — я!» Что ж вы думаете, дня три я прогулял с ним, спился до того, что разум потерял, про закон забыл, с девкой связался… Чуть не подох от пьянства! Холодной водой уж отливали! И только когда все разъехались, он позвал меня к себе в комнату, приказал три раза в ноги поклониться, отправил Самойлу Иваныча в город за вексельной бумагой и, когда бумага была привезена, взял с меня векселей на сто тысяч. Тут и Самойла Иваныч был…
— А расписку взяли? — невольно спросил я.
Но Орешкин только рукой махнул.
— Какая там расписка! Сказано, что с повинной пришел!
И, немного помолчав, он снова заговорил:
— Брюханов представил векселя ко взысканию, получил исполнительные листы, а тем временем мое имение за неплатеж процентов было назначено к аукционной продаже. Все это творили мы тихонько, смирнехонько, чтобы, значит, кредиторы как-нибудь не пронюхали; а когда срок торгов приспел, Брюханов полетел в Питер. Имение мое купил он с переводом долга, деньгами же доплатил тридцать восемь тысяч. Деньги эти были отосланы в окружной суд и выданы Брюханову в уплату по исполнительным листам. Брюханова ввели во владение, да до сих пор имением этим он и владеет. Когда померла наша родительница, я начал приставать к нему настойчиво и стал требовать исполнения обещанного, но Брюханов все водил меня — нынче да завтра, а потом вдруг объявил однажды, что ежели я не дам ему десяти тысяч отсталого, то имения он мне не возвратит. Я бросился к родным, родные обещали дать, но Брюханов, прослышав про это, загнул уже сорок тысяч. «Не хочу!» — заревел я. «А коли не хочешь, говорит, так иди просить на меня; только вряд ли найдется такой суд на земле, который поверил бы тебе на слово!»
Орешкин замолчал, снял шляпу, перекинул через лысину свалившуюся прядь волос, посмотрел на меня прищуренными глазками, помигал, посмаковал губами и вдруг спросил:
— Как на ваш вкус?
Но, не дождавшись ответа, снова заговорил:
— Я даже по этому поводу стихи сочинил.
— Какие?
— Коротенькие, но забористые. Слушайте:
Есть и у нас башибузуки,
И зачастую на Руси
Творят они такие штуки,
Что просто боже упаси!..
— Ловко?
— Еще бы!
Орешкин улыбнулся самой довольной улыбкой.
— Я даже, — начал он немного погодя, — целую повесть написал об этом, носил ее в местную газету…
— И что же?
— Разве наши газетчики понимают что-нибудь!