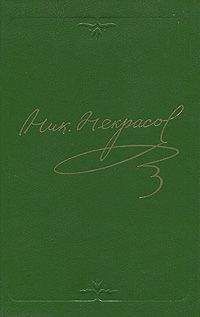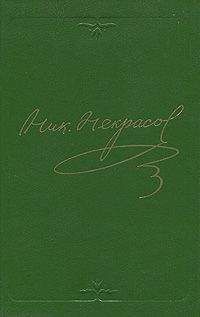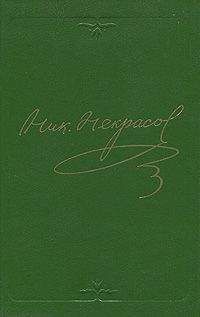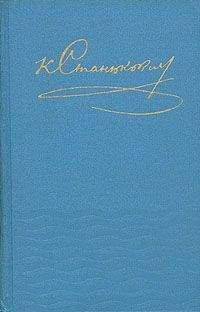Николай Некрасов - Том 9. Три страны света
— Да скажите мне лучше, отчего вы не можете одеться? — спросила Полинька и совсем неожиданно поцеловала его.
— У меня платье украли, — весело отвечал Каютин.
— Новое? — с испугом перебила Полинька.
— Новое.
И он рассказал ей свое приключение.
— Ах, бедненький! да ты, я думаю, страшно перезяб…
— Ах, озяб, да… ужасно озяб, — отвечал он, вспомнив свое пробуждение.
— Надень мой бурнус.
— Нет, зачем? теперь я согрелся; ты озябнешь.
— Я не провела целой ночи на холоду.
И Полинька стала снимать бурнус.
— Не надо, Полинька; ей-богу, мне тепло… Ты вот только… подойди опять поближе…
И он протянул губы; но Полинька не слушалась его.
— Ах, какое платьице! ах, какая ты хорошенькая! — закричал он в восторге, когда Полинька сняла бурнус, — Ну, полно же… ну подойди же… поцелуй… Ведь ты сама сказала, что я бедный: так утешь же меня!
— Выходите сюда, — сказала Полинька и перекинула ему через ширмы бурнус.
Каютин весело выбежал из-за ширм в ее бурнусе. Он остановился перед ней, положил руки на ее плечи и долго смотрел на нее молча. Много любви и счастья выражал его взгляд. Полинька тоже смотрела на него не бесчувственными глазами.
И вдруг обоим им стало грустно. Светлое выражение их глаз помутилось. Они еще продолжали смотреть друг на друга, как у Полиньки навернулись на глазах слезы. Может быть, одна и та же мысль пришла им в голову в одно время, — мысль, что прекрасное их счастье, которое теперь в их руках, они губят сами, что как неделю, месяц, полгода тому назад, так и теперь положение их столько же неопределенно, что бог весть когда оно определится… и что время, золотое, невозвратное время, идет!.. По-крайней мере, Каютин не сомневался, что такие мысли отуманили светлые глазки Полиньки. Он хорошо подметил за минуту, сквозь отверстие ширм, задумчивое, грустное выражение ее лица… Теперь лицо ее было еще печальнее. И, глядя на нее, Каютин внутренно содрогнулся: совесть громко заговорила в нем…
Бывают, минуты, когда сознание недостатков своих, упреки самому себе, забытые, снова данные и снова забытые обеты, — все, что в обыкновенную пору урывками и понемногу тревожит и тяготит нашу совесть, — все просыпается вдруг и начинает говорить в душе разом. Такая минута настала для него.
— Полинька, — сказал он, встав перед ней на колени и пожимая ее руку, — Полинька! ты молчишь; но я знаю, что ты теперь думаешь… Знаю, что думаешь ты всякий раз, когда вдруг лицо у тебя нахмурится и слезы засверкают в глазах… знаю, сколько упреков, горьких, справедливых, убийственных, кипит тогда у тебя на душе. Но ты добра, ты великодушна: ты молчишь… И не говори… я сам знаю… я ужасный человек, я злодей. Помнишь, когда я вымолил у тебя твою руку, я клялся, что буду всеми силами трудиться, чтоб устроить нашу жизнь, что непременно устрою ее… и через несколько дней я забыл свою клятву… я двадцать раз обещал тебе приняться за дело, искать себе работы, ехать куда-нибудь, ехать хоть на край света, только бы зарабатывать деньги, — и на другой день, много на третий, я все забывал!.. Вот еще вчера пошел я с такими прекрасными мыслями: получу деньги, расплачусь с долгами, примусь за дело… воротился…
— Зато прогулялся мимо окон Надежды Сергеевны! — перебила Полинька, улыбаясь сквозь слезы.
— О, я ужасный человек, Полинька! — продолжал Каютин в совершенном отчаянии. — Я недостоин тебя… я не стою твоего прощения… ты никогда не простишь меня!..
— Ты ни в чем не виноват, — тихо сказала она и провела рукой по его волосам…
— Не старайся утешить меня, не обманывай меня… я ведь знаю: ты все видела, ты страдала, но не хотела говорить; только личико твое становилось иногда так печально, слезы навертывались на глаза. Но не думай, чтоб я не замечал ничего: мне прямо на душу падали твои слезы, у меня на душе отзывались они. Они меня теперь душат, разрывают меня, Полинька… только теперь я почувствовал, что я делал, как губил и твое и мое счастье… Слушай же, Полинька!
И он поднял голову и посмотрел на нее. Взгляд его выражал чистосердечное раскаяние и твердую, непоколебимую решимость. Она стояла не шевелясь, с заметным усилием сдерживая рыдание…
— Я был ветреник, дурак, эгоист! я был недостоин тебя… Но я теперь другой человек! Клянусь тебе, Полинька, клянусь моей жизнью, моей честью, любовью к тебе, я буду другой… Я исполню твою молчаливую просьбу, которую читал я в глазах твоих всякий раз, как возвращался с пирушки, как просиживал целые дни, недели и месяцы сложа руки. Я исполню клятву, которую ношу в своем сердце с той минуты, как увидел тебя: я сделаю тебя счастливою!.. Я соберу все мои силы, — буду работать без сна и без отдыха, добьюсь, что жизнь наша будет обеспечена, счастье наше будет упрочено!.. Полинька! — заключил он, подняв к ней умоляющий взгляд: — угадал ли я твои мысли? успокоил ли я тебя сколько-нибудь? веришь ли ты мне?
Она упала ему на грудь и зарыдала. Но рыдания ее были сладки и успокоительны: она ему верила, верила столько же, сколько сам он в ту минуту верил своим обетам и надеждам…
Сидя на полу бедной комнаты, где старый чемодан заменял им кресла, они плакали, пожимали друг другу руку, сквозь слезы улыбались друг другу. Наконец утихло их волнение, так внезапно вспыхнувшее и столь бурное. Тогда они стали спокойнее говорить о своем положении.
— В Петербурге мне нет счастья, — говорил Каютин. — Да в Петербурге я и не могу серьезно работать: много соблазна, — трудно оставить старые привычки, не видаться с знакомыми.
— Не забегать ко мне раз по пяти в день, — прибавила Полинька.
— Нет, Полинька, как можно! Ты мне не мешаешь работать, — быстро сказал Каютин и покраснел, вспомнив, как часто манкировал уроками, чтоб поскорей увидать свою Полиньку.
— В Петербурге тебе нельзя работать, а в провинции делать нечего, — сказала Полинька.
— Нечего! — воскликнул Каютин. — Как нечего? Напротив, там-то и работа нашему брату! Недаром говорят, — продолжал он с шутливой торжественностью, — что отечество наше велико и обильно! В разнообразной производительности наших лесов и гор, земель и необъятных рек скрываются неисчерпаемые источники богатств, неразработанные, нетронутые! Нужно только уменье да твердая, железная воля… Бывают же примеры и у нас, что человек, не имевший гроша, через десять — двадцать лет ворочает сотнями тысяч; а отчего? он отказывает себе во всем, отказывается от всего… обрекает себя на бессрочную разлуку с родным углом, с детьми, со всем дорогим его сердцу… С опасностью жизни переплывает он огромные пространства на плоту, на дрянной барке, мерзнет, мокнет, питается бог знает чем, и надежда выгодно сбыть дрова, получить гривну на рубль за доставку чужого хлеба подкрепляет и одушевляет его в долгом, скучном и опасном плавании. Только успел он вздохнуть спокойно, почувствовав под ногами твердую землю, как новый выгодный оборот увлекает его часто на совершенно противоположный конец нашего необъятного царства. И вот через несколько месяцев он уже мчится на оленях по унылой и однообразной тундре, покупает, выменивает у дикарей звериные шкуры, братается с ними… А через год ему, может быть, придется быть в Сибири… Там опять борьба, лишения, вечный страх и вечная, неумирающая надежда… Вот как куются денежки, Полинька! «Счастье» — говорим мы, когда такой человек, наконец, воротится к нам с миллионом. А многие без дальних справок просто пожалуют его в плуты… Не все наживаются плутнями, и решительно никто не наживался без долгого, упорного, самоотверженного труда… Но мы белоручки: мы ждем, чтоб деньги сами пришли к нам, упали с неба… о, тогда мы радехоньки!.. да притом все мы большие господа: если мы не служим, так нам давай по крайней мере занятие профессора, литератора, артиста… Звание артиста конек наш, — а купец, подрядчик, промышленник… нам обидно и подумать! Как будто быть деятельным купцом не почетнее и не полезнее, чем ничего не делающим гулякой, каков я, например… а, не правда ли, Полинька?
— Ну, ты еще будешь делать, — отвечала она. — Ведь ты год только как вышел из университета: когда же тебе…
— И еще надо взять в расчет, — начал Каютин, увлеченный своею мыслью, — что люди, пускающиеся у нас в такие отважные промыслы, все они без образования, даже часто без сведений, необходимых в том деле, которому они посвятили себя. Врожденный ум, инстинкт — скорее: железная настойчивость, постепенно приобретаемый опыт, русская сметливость да русское авось — вот единственные их руководители… Что же может сделать человек, у которого при доброй воле, трудолюбии, настойчивости и уме, разумеется, есть еще сведения?.. Я имею, — продолжал Каютин, одушевляясь более и более и начиная скорыми шагами ходить по комнате, — некоторые сведения в механике, в горном искусстве… водяные пути сообщения были всегда предметом особенных моих занятий…