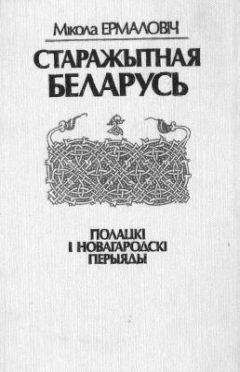Федор Достоевский - Слабое сердце
– Будет кончено! будет! так ей и скажи, что будет, непременно кончу, честное слово!
– Да еще… ах! я и забыл; сестрица записочку и подарок прислала, а я и забыл!..
– Боже мой!.. Ах ты голубчик мой! где… где? вот-а?! Смотри, брат, что мне пишет. Го-лу-бушка, миленькая! Знаешь, я вчера видел у ней бумажник для меня; он не кончен, так вот, говорит, посылаю вам локон волос моих, а то от вас не уйдет. Смотри, брат, смотри!
И потрясенный от восторга Вася показывал локон густейших, чернейших в свете волос Аркадию Ивановичу; потом горячо поцеловал их и спрятал в боковой карман, поближе к сердцу.
– Вася! Я тебе медальон закажу для этих волос! – решительно сказал, наконец, Аркадий Иванович.
– А у нас жаркое телятина будет, а потом завтра мозги; маменька хочет бисквиты готовить… а пшенной каши не будет, – сказал мальчик, подумав, как заключить свои россказни.
– Фу, какой хорошенький мальчик! – закричал Аркадий Иванович. – Вася, ты счастливейший смертный!
Мальчик кончил чай, получил записочку, тысячу поцелуев и вышел счастливый и резвый по-прежнему.
– Ну, брат, – заговорил обрадованный Аркадий Иванович, – видишь, как хорошо, видишь! Все уладилось к лучшему, не горюй, не робей! вперед! Кончай, Вася, кончай! В два часа я домой; заеду к ним, потом к Юлиану Мастаковичу…
– Ну, прощай, брат, прощай… Ах, кабы!.. Ну, хорошо, ступай, хорошо, – сказал Вася, – я, брат, решительно не пойду к Юлиану Мастаковичу.
– Прощай!
– Стой, брат, стой; скажи им… ну, все, что найдешь; ее поцелуй… да расскажи, братец, все потом расскажи…
– Ну уж, ну уж – известно, знаем что! Это счастье перевернуло тебя! Это неожиданность; ты сам не свой со вчерашнего дня. Ты еще не отдохнул от вчерашних своих впечатлений. Ну, кончено! оправься, голубчик Вася! Прощай, прощай!
Наконец друзья расстались. Все утро Аркадий Иванович был рассеян и думал только об Васе. Он знал слабый, раздражительный характер его. «Да, это счастье перевернуло его, я не ошибся! – говорил он сам про себя. – Боже мой! Он и на меня нагнал тоску. И из чего этот человек способен поднять трагедию! Экая горячка какая! Ах, его нужно спасти! нужно спасти!» – проговорил Аркадий, сам не замечая того, что в своем сердце уже возвел до беды, по-видимому, маленькие домашние неприятности, в сущности ничтожные. Только в одиннадцать часов попал он в швейцарскую Юлиана Мастаковича, чтоб примкнуть свое скромное имя к длинному столбцу почтительных лиц, расписавшихся в швейцарской на листе закапанной и кругом исчерченной бумаги. Но каково было его удивление, когда перед ним мелькнула собственная подпись Васи Шумкова! Это его поразило. «Что с ним делается?» – подумал он. Аркадий Иванович, взыгравший еще недавно надеждой, вышел расстроенный. Действительно, приготовлялась беда; но где? но какая?
В Коломну он приехал с мрачными мыслями, был рассеян сначала, но, поговорив с Лизанькой, вышел со слезами на глазах, потому что решительно испугался за Васю. Домой он пустился бегом и на Неве носом к носу столкнулся с Шумковым. Тот тоже бежал.
– Куда ты? – закричал Аркадий Иванович.
Вася остановился, как пойманный в преступлении.
– Я, брат, так; я прогуляться хотел.
– Не утерпел, в Коломну шел? Ах, Вася, Вася! Ну, зачем ты ходил к Юлиану Мастаковичу?
Вася не отвечал; но потом махнул рукой и сказал:
– Аркадий! я не знаю, что со мной делается! я…
– Полно, Вася, полно! ведь я знаю, что это такое. Успокойся! ты взволнован и потрясен со вчерашнего дня! Подумай: ну, как не снесть этого! Все-то тебя любят, все-то около тебя ходят, работа твоя подвигается, ты ее кончишь, непременно кончишь, я знаю: ты вообразил что-нибудь, у тебя страхи какие-то…
– Нет, ничего, ничего…
– Помнишь, Вася, помнишь, ведь это было с тобою; помнишь, когда ты чин получил, ты от счастья и от благодарности удвоил ревность и неделю только портил работу. С тобой и теперь то же самое…
– Да, да, Аркадий; но теперь другое, теперь совсем не то…
– Да как не то, помилуй! И дело-то, может быть, вовсе не спешное, а ты себя убиваешь…
– Ничего, ничего, я только так. Ну, пойдем!
– Что ж ты домой, а не к ним?
– Нет, брат, с каким я лицом явлюсь?.. Я раздумал. Я только один без тебя не высидел; а вот ты теперь со мной, так я и сяду писать. Пойдем!
Они пошли и некоторое время молчали. Вася спешил.
– Что ж ты меня не расспрашиваешь об них? – сказал Аркадий Иванович.
– Ах, да! Ну, Аркашенька, что ж?
– Вася, ты на себя не похож!
– Ну, ничего, ничего. Расскажи же мне все, Аркаша! – сказал Вася умоляющим голосом, как будто избегая дальнейших объяснений. Аркадий Иванович вздохнул. Он решительно терялся, смотря на Васю.
Рассказ о коломенских оживил его. Он даже разговорился. Они пообедали. Старушка наложила бисквитами полный карман Аркадия Ивановича, и приятели, кушая их, развеселились. После обеда Вася обещал заснуть, чтоб просидеть всю ночь. Он действительно лег. Утром кто-то, перед кем нельзя было отказаться, позвал Аркадия Ивановича на чай. Друзья расстались. Аркадий положил прийти как можно раньше, если можно, даже в восемь часов. Три часа разлуки прошли для него как три года. Наконец он вырвался к Васе. Войдя в комнату, он увидел, что все темно. Васи не было дома. Он спросил Мавру. Мавра сказала, что все писал и не спал ничего, потом ходил по комнате, а потом, час тому назад, убежал, сказав, что через полчаса будет; «а когда, мол, Аркадий Иванович придут, так скажи, мол, старуха, – заключила Мавра, – что гулять я пошел, и три, не то, мол, четыре раза наказывал».
«У Артемьевых он!» – подумал Аркадий Иванович и покачал головой.
Через минуту он вскочил, оживленный надеждой. Он просто кончил, подумал он, вот и все; не утерпел, да и убежал туда. Впрочем, нет! Он меня бы дождался… Взгляну-ка я, что там у него!
Он зажег свечку и бросился к письменному столу Васи: работа шла, и, казалось, до конца было не так далеко. Аркадий Иванович хотел было исследовать дальше, но вдруг вошел Вася…
– А! ты здесь? – закричал он, вздрогнув от испуга.
Аркадий Иванович молчал. Он боялся спросить Васю. Тот потупил глаза и тоже молча начал разбирать бумаги. Наконец глаза их встретились. Взгляд Васи был такой просящий, умоляющий, убитый, что Аркадий вздрогнул, когда встретил его. Сердце его задрожало и переполнилось…
– Вася, брат мой, что с тобой? что ты? – закричал он, бросаясь к нему и сжимая его в объятиях. – Объяснись со мной; я не понимаю тебя и тоски твоей; что с тобой, мученик ты мой? что? Скажи мне все без утайки. Не может быть, чтоб это одно…
Вася крепко прижался к нему и не мог ничего говорить. Дух его захватило.
– Полно, Вася, полно! Ну, не кончить тебе, что ж такое? Я не понимаю тебя; открой мне мучения свои. Видишь ли, я для тебя… Ах, боже мой, боже мой! – говорил он, шагая по комнате и хватаясь за все, что ни попадалось ему под руки, как будто немедленно ища лекарства для Васи. – Я сам завтра, вместо тебя, пойду к Юлиану Мастаковичу, буду просить, умолять его, чтоб дал еще день отсрочки. Я объясню ему все, все, если только это так тебя мучает…
– Боже тебя сохрани! – вскричал Вася и побелел, как стена. Он едва устоял на месте.
– Вася, Вася!..
Вася очнулся. Губы его дрожали; он хотел что-то выговорить и только молча судорожно пожимал руку Аркадия… Рука его была холодна. Аркадий стоял перед ним полный тоскливого и мучительного ожидания. Вася опять поднял на него глаза.
– Вася! бог с тобой, Вася! Ты истерзал мое сердце, друг мой, милый ты мой.
Слезы градом хлынули из глаз Васи; он бросился на грудь Аркадия.
– Я обманул тебя, Аркадий! – говорил он. – Я обманул тебя; прости меня, прости! Я обманул твою дружбу…
– Что, что Вася? что ж такое? – спросил Аркадий решительно в ужасе.
– Вот!..
И Вася с отчаянным жестом выбросил на стол из ящика шесть толстейших тетрадей, подобных той, которую он переписывал.
– Что это?
– Вот что мне нужно приготовить к послезавтрашнему дню. Я и четвертой доли не сделал! Не спрашивай, не спрашивай… как это сделалось! – продолжал Вася, сам тотчас заговорив о том, что так его мучило. – Аркадий, друг мой! Я не знаю сам, что было со мной! Я как будто из какого сна выхожу. Я целые три недели потерял даром. Я все… я… ходил к ней… У меня сердце болело, я мучился… неизвестностью… я и не мог писать. Я и не думал об этом. Только теперь, когда счастье настает для меня, я очнулся.
– Вася! – начал Аркадий Иванович решительно. – Вася! я спасу тебя. Я понимаю все это. Это дело не шутка. Я спасу тебя! Слушай, слушай меня: я завтра же иду к Юлиану Мастаковичу… Не качай головой, нет, слушай! Я расскажу ему все, как было; позволь уж мне сделать так… Я объясню ему… я на все пойду! Я расскажу ему, как ты убит, как ты мучишься.
– Знаешь ли, что ты уж теперь убиваешь меня? – проговорил Вася, весь похолодев от испуга.
Аркадий Иванович побледнел было, но одумался и тотчас же рассмеялся.
– Только-то? только это? – сказал он. – Помилуй, Вася, помилуй! не стыдно ли? Ну, послушай! Я вижу, что огорчаю тебя. Видишь, я понимаю тебя: я знаю, что в тебе происходит. Ведь уж мы пять лет вместе живем, слава богу! Ты добрый, нежный такой, но слабый, непростительно слабый. Ведь уж и Лизавета Михайловна это заметила. Ты, кроме того, и мечтатель, а ведь это тоже нехорошо: свихнуться, брат, можно! Послушай, ведь я знаю, чего тебе хочется! Тебе хочется, например, чтоб Юлиан Мастакович был вне себя и еще, пожалуй, задал бы бал от радости, что ты женишься… Ну, постой, постой! Ты морщишься. Видишь, уж от одного моего слова ты обиделся за Юлиана Мастаковича! Я оставлю его. Я ведь и сам его уважаю не меньше твоего! Но уж ты меня не оспоришь и не откажешь мне думать, что ты бы желал, чтоб не было даже и несчастных на земле, когда ты женишься… Да, брат, ты уж согласись, что тебе бы хотелось, чтоб у меня, например, твоего лучшего друга, стало вдруг тысяч сто капитала; чтоб все враги, какие ни есть на свете, вдруг бы, ни с того ни с сего, помирились, чтоб все они обнялись среди улицы от радости и потом сюда к тебе на квартиру, пожалуй, в гости пришли. Друг мой! милый мой! я не смеюсь, это так; ты уж давно мне все почти такое же в разных видах представлял. Потому, что ты счастлив, ты хочешь, чтоб все, решительно все сделались разом счастливыми. Тебе больно, тяжело одному быть счастливым! Потому ты хочешь сейчас всеми силами быть достойным этого счастья и, пожалуй, для очистки совести сделать подвиг какой-нибудь! Ну, я и понимаю, как ты готов себя мучить за то, что там, где бы нужно было показать свое радение, уменье… ну, пожалуй, благодарность, как ты говоришь, ты вдруг манкировал![6] Тебе ужасно горько при мысли, что Юлиан Мастакович поморщится и даже рассердится, когда увидит, что ты не оправдал надежд, которые он возложил на тебя. Тебе больно думать, что ты услышишь упреки от того, кого считаешь своим благодетелем, – и в какую минуту! Когда у тебя радостью переполнено сердце и когда ты не знаешь, на кого излить свою благодарность… Ведь так, не правда ли? Ведь так?