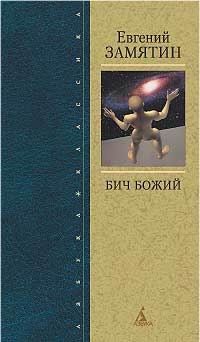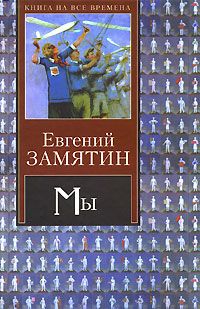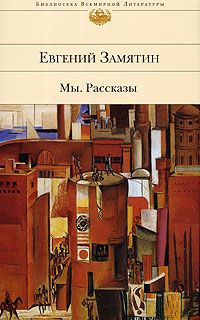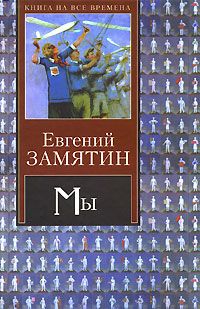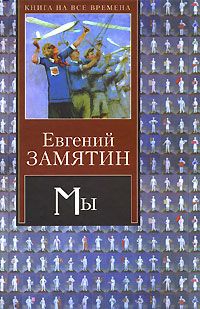Евгений Замятин - Алатырь
– Вязь-то какая прекрасная, а? Прямо талант, дар божий… – Иван Павлыч любовался вязаной салфеткой. – А-а… вы, говорят, тоже… тово… пишете? – повернулся он к Косте.
– А вы – откуда же… откуда же вам известно? – покраснел от радости Костя.
– Как откуда? Про вас в журналах пишут, а вы и не знаете… – и протянул Иван Павлыч Косте свежий номерок «Епархиальных ведомостей».
В самом конце, после «печатать разрешается», были три неровные строчки: «Что же касается стихотворений молодого писателя Едыткина, то таковые мы считаем отнести к высшей литературе».
Хотел что-то сказать Костя, но схватило за горло, стоял, совершенно убитый счастьем. Где же Косте узнать, что напечатаны эти строчки в типографии купца Агаркова по личной Ивана Павлыча просьбе?
Ночью Костя – и спал, и не спал. Глаза закроет – и сейчас же ему видится: будто он над епархией все летает, а епархия – зелененькая и так, невеличка, вроде, сказать бы, выгона. И машут ему платочками снизу: знают все, что летает Константин Едыткин.
Ну, теперь уж, хочешь не хочешь, надо писать. Предварительно Костя перечел еще раз «Догматическое богословие» – самую любимую свою книгу, потому что все было там непонятно, возвышенно. А потом уж засел писать серьезное сочинение в десяти главах: довольно стихами-то баловаться.
Писал по ночам. Потифорна самосильно посвистывала носом во сне. Усачи-тараканы звонко шлепались об пол. В тишине – металась, трещала свеча. В тишине – свечой негоримо-горючей Костя горел. Писал о служении женщинам: о любви вне пределов, вне чисел земных; о восьмом Вселенском соборе, где возглашен будет символ новой веры: ведь Бог-то, оказывается, – женского рода… Так близко сверкали слова, кажется – только бери. Ан глядь – на бумаге-то злое, другое: уж такая мука, такая мука!
В вечер Михайлова дня – Костя публично читал свое сочинение в гостиной у исправника. Бледный, как месяц на ущербе, покорно улыбнутый навеки, стоял – трепетала тетрадка в руках. Поглядел еще раз молитвенно на Глафиру…
– Ну, господа, тише, тише, сейчас начинает, – суетился Иван Павлыч, как бес.
В тишине, чуть слышно, прочел Костя:
– Заглавие: «Внутренний женский догмат божества».
Неслышно-взволнованно горели лампы. Чужим голосом читал Костя. Публика глядела в землю, и не понять было, нравится ей Костино сочинение или нет.
Костя дошел до второй главы, самой лучшей и самой возвышенной: о восьмом Вселенском соборе. Голосом выше забрал, вдохновился, стал излагать проект всеобщей религиозно-супружеской жизни.
Тут вот и прорвало. Не стерпев, первым фыркнул исправник, за ним – подхватил Иван Павлыч, а уж там покатились и все – и всех пуще звенела Глафира.
Проснулась исправничиха, брыкнула свой стул со страху:
– Да что ж это, батюшки, где загорелось-то? – Смех еще пущий.
…Как заяц, забился Костя в запечье, в спальне исправницкой. Голову, голову-то куда-нибудь, главное, спрятать. Голову-то хоть спрятать бы!
Старинным старушечьим сердцем одна исправничиха пожалела, одна разыскала, одна утешила Костю.
– Да что ж это, батюшка, чего ты сбежал-то? Ты думаешь что? Это ведь я со сна чебурахнулась вниз головой, надо мной грохотали, старухой, а ты думал что? Экие гордецы нонче все: уж сейчас на свой счет…
Костя поднял голову, Костя хватался за соломинку, глазами молил о чем-то исправничиху.
Услыхала исправничиха, уткнула себе в колени Костину голову:
– Иль мне уж не веришь? Я не Иван Павлыч какой-нибудь, я обманывать не стану.
– Я ве-ерю… – захлебнулся Костя слезами.
7. В серебряные леса
Вышла зима больно студеная, такой полста лет не бывало. Обманно-радостное, в радужных двух кругах, выплывало льдяное солнце. От стыди от лютой – наполы треснул древний алатырь-камень.
– Ну-у, быть беде, – крушились алатырцы.
А пока, до беды, засели покрепче в мурьях, еще пуще предались сновиденной жизни – всякий своей. Исправник изобретал; Родивон Родивоныч – выписал «Готский альманах» и услаждался; Костя горестно вернулся к стихам; отец Петр беседовал с своим коземордым; все тем же горбоносым горела Глафира; а князь проповедовал великий язык эсперанто…
Что-то рассохлось, разладилось дело у князя. Все чаще на почту приходили кучера – с усами в сосульках – и вручали князю записки: не могу, мол, быть на уроке по случаю внезапной болезни. Вовсе отстал Родивон Родивоныч, не стерпел – исправник отстал, поредели ряды девиц. Князь понял, что надеяться можно только на двух: на Глафиру да еще на Варвару. Вот уж эти действительно любят великий язык: так и чеканят, так и тачают друг перед дружкой. Улыбался князь то одной, то другой:
– От-лично, пре-красно…
Глафира и видеть не могла теперь Варвару. А Варвара черно-синеволосая, с ласково-злой улыбкой, все лезла к Глафире, все норовила обнять. Не стерпев однажды, Глафира сказала:
– Ты что лезешь? Думаешь, я не знаю, кто мне на Масленой платье почекрыжил? Зна-аю, голубушка, знаю!
– А я, думаешь, не знаю, как ты себе бороду на подбородке стрыгешь? Ште, съела?
С той поры – ни слова: конец. И только при встречах, как гуси, зловеще шипели…
После уроков, усталый, расхаживал князь по почте. Трудно, ох как трудно! Но все-таки на один день ближе к тому празднику, к той светлой Пасхе, когда кликнут все на одном языке, запоют и обымут друг друга, и кончится старая жизнь.
На полу – окурки, крошки (ученикам полагался ситный от почтмейстера и чай), шпильки, бумажки. Князь рассеянно подымал, разглядывал. Рожки, росчерки. «Кн. Екатерина Вад.». «Катька, ты дура набитая». «А я его все-таки обожаю». Попадались часто записки отца Петра – к соседу его по урокам аптекарю Левину… «А вчерась явился он мне телешом. Это уж пакостно даже глядеть. Не ведомо ли какое-либо от искушений медицинское средство?»
Но все это так, пустяки. А вот последнее время – в самом деле, какие-то странные пошли записки. Находил их князь на своем столе, под подушкой, в карманах: Бог их знает – как туда попадали. Чуть-чуть надушены были эти записки и всегда – на великом всемирном языке.
– Mi amas tin, amas, amas – a… a… a… – amas, – подряд без конца. Нарочный, изломанный почерк.
Под великим секретом – показал князь Ивану Павлычу, Иван Павлыч кряхтел, и без лупы разглядывал, и в лупу:
– Исправникова Глафирка, голову даю на отсечение! Кому же еще по-эсперанту так ловко?
А назавтра – новое князю:
«Милый, милый – я тебе все…»
И конец. И молчок. Расхаживал князь, счастливый.
«Милый, будет ночь, темно, и все, что велишь…» – и конец, ни слова.
Кто научил ее так – лукавому знать. Будто вот плясала перед князем, вся в черном. Вдруг откинула складки – сверкнуло на черном розово-нежно. И конец. И снова колышется тяжелый покров, и манит, и манит без конца глядеть, не мелькнет ли еще…
Длинным вьюжным вечером смотрел князь в узорно-морозные окна, потихоньку бродил меж серебряных деревьев – и все возвращался к одному: к несказанному, к мелькнувшему. Ее – никогда не называл князь: Глафира, – как Иван Павлыч, а всегда говорил: она.
Неприметно и плавно, как цветы расцветают, она медленно зрела из исправниковой Глафиры – и вот в декабре она уже стала жить самолично, сама по себе.
По-прежнему все записки от нее написаны были на эсперанто: получи теперь князь от нее хоть слово по-русски – он счел бы это противоестественным, был бы даже оскорблен. Помалу связал ее князь с великим языком воедино.
Всякое эсперантское слово – теперь вдвойне сладко князю: ведь это – ее слова. В ее синих, глубочайших глазах – пленен весь мир. И равно – всем миром владеет язык эсперанто…
«…Да что – всем миром: всей Вселенной. На Венере какой-нибудь, венерические тамошние жители – тоже, поди, эсперанто знают. А как же? Обязательно знают».
Так мечталось князю. Так все дальше в серебряные леса уходил князь от скучной правды. Бывшей правде, княгине, проживавшей в Сапожке у отца своего – протоиерея, князь давно уж и писать перестал. Избегал он и Глафиру видеть с глазу на глаз: может, и правда – Глафира пишет записки, но не надо это знать.
Вечера князь просиживал дома, а за полночь – шел гулять. Ночью удобно думать: пустые, просторные, снежные улицы, влекущие огни лампадок в окнах, бродил и бродил.
…А следом за князем, темной тенью у стен, крался Костя. Тенью за князем Костя следил теперь и денно и нощно: надо узнать наверняк, что у него с Глафирой. Хоть самое… хоть самое страшное, да только бы наверно. Без наверного – совсем невтерпеж. Глафире хоть Костя и верит – как же не верить-то, господи? – но вот Иван Павлыч говорит, что она…