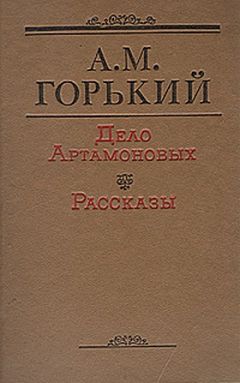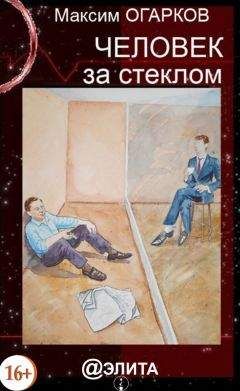Максим Горький - Том 16. Рассказы, повести 1922-1925
— Хороший мужик? — спросил я.
— Хороший, только следить за ним надо, — буен! Жену так бил, что она и родить не могла, всё сбрасывала ребятёнок, а после — с ума сошла. Я ему говорю: «За что ты её бьёшь?» — «Не знаю, говорит, так себе, хочется да и всё…»
Замолчав, он опустил руку и, сидя неподвижно, долго смотрел в огонь костра, приподняв седые брови. Лицо его, освещённое огнём, казалось раскалённым докрасна и стало страшно; тёмные зрачки голых, разодранных глаз изменили свою форму — не то сузились, не то расширились, — белки стали больше, и как будто он вдруг ослеп.
Он двигал губами, — ощетинясь, шевелились редкие волосы усов, — словно он хотел сказать что-то, но — не мог.
А заговорил он всё-таки спокойно, только вдумчиво, как-то особенно:
— Это со многими мужиками бывает, дружба: вдруг хочется бабу избить, без всякой без вины её, да ещё — в какой час! Только вот целовал её, любовался красотой, и тут же, в минуту, приходит охота — бить! Да, да, дружба, это бывает… Я тебе скажу — я сам, смирный человек, нежный, уж как я женщин любить умел, до того, бывало, дойдёшь — так бы весь и влез в неё, в сердце ей, скрылся бы в нём, как в небесах голубь, — вот как хорошо бывало! И — тут её ударить, ущипнуть как-нибудь больнее хочется, и ведь щипал, да! Взвизгнет, спрашивает: что ты? А тебе и сказать нечего, — что тут скажешь?
Я изумлённо смотрел на него и тоже не знал, что сказать, о чём спросить, — поразило меня его странное признание. А он, помолчав, снова заговорил про Олёшу.
— После того, как жена обезумела, Олёша ещё хуже характером стал, — находит на него буйная блажь, проклятым себя считает и всех бьёт. Намедни мужики привели его ко мне связанного, в кровь избили всего, опух весь, как хлеб коркой кровью запёкся. «Укроти, говорят, его, отец Савёл, а то убьём, житья нам нет от зверя!» Вот как, дружба! Дён пять я его выхаживал, — я ведь и лечить умею маленько… Да-а, дружба, не легко людям жить, — охо-хо! Не сладко, дружба ты моя милая, ясные глаза… Вот — утешаю я их, н-да!
Он усмехнулся жалостливо, и от этого его лицо стало ещё уродливее, страшнее.
— А которых — обманываю немножко, ведь живут и такие люди, которым нет уже никакого утешения, кроме обмана… Есть, дружба, такие… Есть…
О многом хотелось спросить его, но он целый день не ел, усталость и выпитый стакан водки заметно действовали на него, он дремал, покачивался, и обнажённые глаза его всё чаще прикрывались красными рубцами век.
Всё-таки я спросил:
— Дедушка Савёл, а что, по-твоему, ад — есть?
Он поднял голову и строго, обиженно сказал:
— Ну, — как же это можно — ад? Ну, — где же это? Бог, а тут — ад? Разве можно? Это несоединимое, дружба, это — обман! Это всё вы, грамотные, для страха придумали, попы всё дурят. Человека не к чему пугать. Да никто и не боится ада-то этого…
— А — дьявол-то как же, он где живёт?
— Ну, ты этим не шути…
— Я не шучу.
— То-то.
Он взмахнул над костром полой армяка и тихонько сказал:
— Ты над ним не смейся. У всякого — своя ноша. Французик-то, может, правду сказал: и дьявол господу поклонится в свой час. Мне поп один о блудном сыне рассказывал из евангелия, — я это очень помню. По-моему, притча эта про дьявола и сказана. Про него, не иначе он самый и есть блудень сын.
Он покачнулся над костром.
— Лёг бы ты, уснул, — предложил я.
Старик согласился:
— Верно, пора…
Легко опрокинулся на бок, поджал ноги к животу, натянул армяк на голову и — замолк. Потрескивали и шипели ветки на углях костра, дым поднимался затейливыми струйками во тьму ночи.
Я смотрел на старика и думал:
«Это — святой человек, обладающий сокровищем безмерной любви к миру?»
Вспомнил хроменькую, пёстро одетую девушку с печальными глазами, и вся жизнь представилась мне в образе этой девушки: стоит она перед каким-то маленьким, уродливым богом, а он, умея только любить, всю чарующую силу любви своей влагает в одно слово утешения:
«Милая…»
Рассказ о безответной любви
Проходя Театральным переулком, я почти всегда видел у двери маленькой лавки, в пристройке к старому, деревянному дому, человека, который казался мне не на своём месте и лишним в этой узкой, тёмной щели города, накрытой полосою пыльного неба.
Человек или сидел у двери на стуле, читая газету, или стоял в двери, опираясь плечом о косяк, сложив руки на груди. Маленькая вывеска над его головою чёрными косыми буквами говорила, что в лавочке продаются «Канцелярские принадлежности». За мутным стеклом окна были разложены пачки конвертов, блокноты и пёстрые коллекции старых марок на квадратных картонах.
Иногда я останавливался пред окном, будто бы разглядывая покрытый пылью, выцветший, жалкий товар, и незаметно наблюдал торговца, а он сосредоточенно смотрел в окна дома против его, на старый ящик из кирпичей, обломанный временем, с извилистой трещиной в стене, с двумя рядами тусклых окон, по четыре в ряд; карнизы их засижены голубями, в потоках голубиного помёта и ржавая вывеска над окнами нижнего этажа:
«Портной Мучник».
Вероятно, не менее сотни лет стоит на земле этот дом. И весь переулок — две унылые, грязные линии таких же старых домов, плотно прижатых один к другому.
Человек — в длинном, очень потёртом сюртуке, под сюртуком чувствуется сухое, но стройное тело; ноги — в разношенных ботинках, но видно, что ступня их мала, хорошей формы. Лицо густо обросло серой, аккуратно подстриженной бородкой, седоватые волосы удлинённого черепа гладко зачёсаны за уши, маленькие и вырезанные чётко. Волосы, должно быть, очень мягкие, они лежат плотно, точно склеены. В этой причёске есть что-то «интеллигентное», но она не гармонирует с длинным, сухим лицом, и кажется, что благодаря именно ей хрящеватый, тонкий нос так подчёркнуто печально высунулся вперёд. Странные глаза у этого человека: белки их синеваты, зрачки рыжего цвета, они прорезаны узко, взгляд их холоден, прям, но всё-таки кажется, что смотрят они вниз, в землю.
Я стоял у окна минуты по три и более, ожидая, что человек этот спросит наконец:
«Что вам угодно?»
Но он как будто не замечал меня, неподвижный, скрестив руки на груди, окружённый незримым облаком скуки, раздражавшей моё любопытство. Что сторожит он, о чём скучает?
В лавку его забегали гимназисты покупать марки для коллекции, он впускал их в дверь неохотно, говорил с ними кратко, как бы исполняя чужое, не интересное ему дело. И когда я вошёл в его лавочку купить конверты, он меня встретил так же нелюбезно, завернул покупку, кратко сказал цену и скрестил руки на груди, явно ожидая, скоро ли я исчезну.
— Давно торгуете?
— Давно.
— Глухое место?
— Да.
— Нет ли у вас старинных монет?
— Не имею.
Более чем ясно — этот человек не хочет говорить. Но мне попала на глаза открытка — портрет женщины; прикрыв рот веером из перьев страуса, она сидела в широком кресле, глаза её улыбались кокетливо, но как будто иронически, лицо — хмельное или очень капризное. Внизу открытки напечатано:
Лариса Антоновна Добрынина,
известная артистка провинциальных театров».
Ещё открытка: та же дама в роли Офелии, со снопом цветов в руках, но глаза не безумны, а улыбаются той же непонятной улыбкой. Вот она же в роли Норы, Марии Стюарт, и ещё она, и ещё. На всех портретах одна и та же улыбка кривит её рот, большой, пухлый, резко отделяющий верхнюю часть лица от широкого и туповатого подбородка.
— Лучше всего она — здесь, — внушительно сказал торговец, указывая длинным серым пальцем на портрет в кресле. — Это — моё издание! — добавил он с гордостью.
— Никогда не слыхал её имени, — сказал я.
Он пожал плечами, как бы обидясь.
— Однакож она была весьма знаменита. Имя её гремело.
Он назвал несколько городов, где артистка пользовалась «колоссальным успехом», и, с оттенком пренебрежения к моему невежеству, дал мне, избитыми словами газетных рецензий, характеристику её таланта. Говорил он, закрыв глаза и как будто читая.
— Жива?
— Умерла.
— Давно?
— Девять лет.
Несомненно, это был какой-то чудак. Чудаки украшают мир. Я решил познакомиться с ним ближе, это мне удалось, и вот что рассказал странный человек.
— Чтобы печаль моей истории была понятна вам, я должен начать её издалека, с детских дней. Отец мой, Клим Торсуев, известный мыловар, был человек тяжёлого характера, нелюдим и в ссоре с жизнью, несмотря на богатство и удачу в делах. Огромного роста, редкой силы, волосатый, он ходил по земле наклоня голову, как бык, и в некоторой слепоте от неведомой обиды, нанесённой ему. Можно допустить, что обида — от матери моей, она была дочерью майора Горталова, героя турецкой войны, и когда мне было девять лет, а брату моему Коле — шесть, уехала от нас с одним знаменитым пианистом и вскоре скончалась где-то за границей. Я её помню в костюме русалки, всю в зелёных лентах, в цветах, чёрные волосы распущены до талии, и на голове роса из бриллиантов. В этом виде она спросила меня: «Хороша я?» И когда я сказал: «Да, очень хороша!» — она ласково ударила меня по лбу, говоря: «Вот видишь, а ты меня не слушаешься, не любишь». Я обещал слушаться, но на пасхе она уехала.