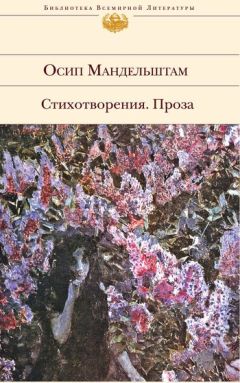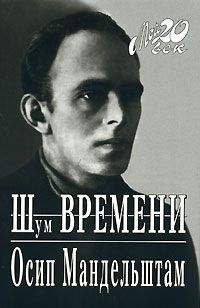Осип Мандельштам - Египетская марка
Все трудней перелистывать страницы мерзлой книги, переплетенной в топоры при свете газовых фонарей.
Вы, дровяные склады-черные библиотеки города
мы еще почитаем, поглядим.
Где-то на Подьяческой помещалась эта славная библиотека, откуда пачками вывозились на дачу коричневые томики иностранных и российских авторов, с зачитанными в шелк заразными страницами. Некрасивые барышни выбирали с полок книги. Кому - Буржэ, кому - Жорж Онэ, кому еще что-нибудь из библиотечного шурум-бурума.
Напротив была пожарная часть с закрытыми наглухо воротами и колоколом под шляпкой гриба.
Некоторые страницы сквозили как луковичная шелуха.
В них жила корь, скарлатина и ветреная оспа.
В корешках этих дачных книг, то и дело забываемых на пляже, застревала золотая перхоть {58} морского песку, - как ее ни вытряхивать - она появлялась снова.
Иногда выпадала готическая елочка папоротника, приплюснутая и слежавшаяся, иногда - превращенный в мумию безымянный северный цветок.
Пожары и книги-это хорощо.
Мы еще поглядим-почитаем.
"За несколько минут до начала агонии по Невскому прогремел пожарный обоз. Все отпрянули к квадратным запотевшим окнам, и Анджиолину Бозио уроженку Пьемонта, дочь бедного странствующего комедианта - basso comico предоставили на мгновенье самой себе.
"Воинственные фиоритуры петушиных пожарных рожков, как неслыханное брио безоговорочного побеждающего несчастья, ворвались в плохо проветренную спальню демидовского дома. Битюги с бочками, линейками и лестницами отгрохотали и полымя факелов лизнуло зеркала. Но в потускневшем сознаньи умирающей певицы этот ворох горячечного казенного шума, эта бешеная скачка в бараньих тулупах и касках, эта охапка арестованных и увозимых под конвоем звуков обернулась призывом оркестровой увертюры. В ее маленьких некрасивых ушах явственно {59} прозвучали последние такты увертюры к "Duo Foscari", ее дебютной лондонской оперы...
"Она приподнялась и пропела то, что нужно, но не тем сладостным металлическим, гибким голосом, который сделал ей славу и который хвалили газеты, а грудным необработанным тембром пятнадцатилетней девочки-подростка, с неправильной неэкономной подачей звука, за которую ее так бранил профессор Каттанео.
"Прощай Травиата, Розина, Церлина..."
{60}
VIII.
В тот вечер Парнок не вернулся домой обедать и не пил чаю с сухариками, которые он любил, как канарейка. Он слушал жужжание паяльных свеч, приближающих к рельсам трамвая ослепительно-белую мохнатую розу. Он получил обратно все улицы и площади Петербурга - в виде сырых корректурных гранок, верстал проспекты, брошюровал сады.
Он подходил к разведенным мостам, напоминающим о том, что все должно оборваться, что пустота и зияние - великолепный товар - что будет - будет разлука, что обманные рычаги управляют громадами и годами.
Он ждал, покуда накапливались таборы {61} извозчиков и пешеходов на той и другой стороне, как два враждебных племени или поколенья, поспорившие о торцовой книге в каменном переплете с вырванной серединой.
Он думал, что Петербург - его детская болезнь, и что стоит лишь очухаться, очнуться - и навождение рассыплется: он выздоровеет, станет, как все люди; пожалуй, женится даже... Тогда никто уже не посмеет называть его "молодым человеком". И ручки дамам он тогда бросит целовать. - Хватит с них! Тоже проклятые завели Трианон... Иная лахудра, бабище, облезлая кошка, сует к губам лапу, а он по старой памяти - чмок! - Довольно. Собачьей молодости надо положить конец. Ведь обещал же Артур Яковлевич Гофман устроить его драгоманом хотя бы в Грецию. А там видно будет. Он сошьет себе новую визитку, он объяснится с ротмистром Кржижановским, он ему покажет.
Вот только одна беда - родословной у него нет. И взять ее неоткуда нет и все тут! Всех-то родственников у него одна тетка - тетя Иоганна. Карлица. Императрица Анна Леопольдовна. По-русски говорит как чорт. Словно Бирон ей сват и брат. Ручки коротенькие. Ничего застегнуть сама не может. А при ней горничная Аннушка - Психея.
{62} Да, с такой родней далеко не уедешь. Впрочем, как это нет родословной, позвольте - как это нет? Есть. А капитан Голядкин? А коллежские асессоры, которым "мог господь прибавить ума и денег". Все эти люди, которых спускали с лестниц, шельмовали, оскорбляли в сороковых и пятидесятых годах, все эти бормотуны, обормоты в размахайках, с застиранными перчатками, все те, кто не живет, а проживает на Садовой и Подъяческой в домах, сложенных из черствых плиток каменного шоколада, и бормочут себе под нос. - Как же это? без гроша, с высшим образованием?"
Надо лишь снять пленку с петербургского воздуха и тогда обнажится его подспудный пласт. Под лебяжьим, гагачьим, гагаринским пухом - под Тучковыми тучками, под французским буше умирающих набережных, под зеркальными зенками барско-холуйских квартир обнаружится нечто совсем неожиданное.
Но перо, снимающее эту пленку - как чайная ложечка доктора, зараженная дифтеритным налетом. Лучше к нему не прикасаться.
- Комарик звенел:
Глядите, что сталось со мной: я последний египтянин - я плакальщик, пестун, пластун - я маленький князь-раскоряка - я нищий {63} Рамзес-кровопийца - я на севере стал ничем - от меня так мало осталось извиняюсь !...
- Я князь невезенья - коллежский асессор из города Фив... Все такой же - ничуть не изменился - ой, страшно мне здесь - извиняюсь...
- Я - безделица. Я - ничего. Вот попрошу у холерных гранитов на копейку - египетской кашки, на копейку - девической шейки.
- Я ничего - заплачу - извиняюсь.
Чтоб успокоиться, он обратился к одному неписаному словарику, вернее реестрику домашних словечек, вышедших из обихода. Он давно уже составил его в уме на случай бед и потрясений:
- "Подкова"-так называлась булочка с маком.
- "Фромуга"-так мать называла большую откидную форточку, которая захлопывалась, как крышка рояля.
- "Не коверкай" - так говорили о жизни.
- "Не командуй" - так гласила одна из заповедей.
Этих словечек хватит на заварку. Он принюхивался к их щепотке. Прошлое стало потрясающе реальным и щекотало ноздри, как партия свежих кяхтинских чаев.
{64} По снежному полю ехали кареты. Над полем свесилось низкое суконно-полицейское небо, скупо отмеривая желтый и, почему-то, позорный свет.
Меня прикрепили к чужой семье и карете. Молодой еврей пересчитывал новенькие, с зимним хрустом, сотенные бумажки.
- Куда мы едем ? - спросил я старуху в цыганской шали.
- В город Малинов, - ответила она с такой щемящей тоской, что сердце мое сжалось нехорошим предчувствием.
Старуха, роясь в полосатом узле, вынимала столовое серебро, полотно, бархатные туфли.
Обшарпанные свадебные кареты ползли все дальше, вихляя как контрабасы.
Ехал дровяник Абраша Копелянский с грудной жабой и тетей Иоганной, раввины и фотографы. Старый учитель музыки держал на коленях немую клавиатуру. Запахнутый полами стариковской бобровой шубы, ерзал петух, предназначенный резнику.
- Поглядите, - воскликнул кто-то, высовываясь в окно, - вот и Малинов.
Но города не было. Зато прямо на снегу росла крупная бородавчатая малина.
- Да это малинник!-захлебнулся я, вне себя от радости, и побежал с другими, набирая снега {65} в туфлю. Башмак развязался и от этого мною овладело ощущение великой вины и беспорядка.
И меня ввели в постылую варшавскую комнату и заставили пить воду и есть лук.
Я то и дело нагибался, чтоб завязать башмак двойным бантом и все уладить, как полагается, - но бесполезно. Нельзя было ничего наверстать и ничего исправить: все шло обратно, как всегда бывает во сне. Я разметал чужие перины и выбежал в Таврический сад, захватив любимую детскую игрушку пустой подсвечник, богато оплывший стеарином - и снял с него белую корку, нежную, как подвенечная фата.
Страшно подумать, что наша жизнь - это повесть без фабулы и героя, сделанная из пустоты и стекла, из горячего лепета одних отступлений, из петербургского инфлуэнцного бреда.
Розовоперстая Аврора обломала свои цветные карандаши. Теперь они валяются, как птенчики, с пустыми разинутыми клювами. Между тем, во всем решительно мне чудится задаток любимого прозаического бреда.
Знакомо ли вам это состояние? Когда у всех вещей словно жар; когда все они радостно возбуждены и больны: рогатки на улице, шелушенье афиш, рояли, толпящиеся в депо, как умное стадо {66} без вожака, рожденное для сонатных беспамятств, и кипяченой воды...
Тогда, признаться, я не выдерживаю карантина и смело шагаю, разбив термометры, по заразному лабиринту, обвешанный придаточными предложениями, как веселыми случайными покупками ... и летят в подставленный мешок поджаристые жаворонки, наивные как пластика первых веков христианства, и калач, обыкновенный калач, уже не скрывает от меня, что он задуман пекарем, как российская лира из безгласного теста.