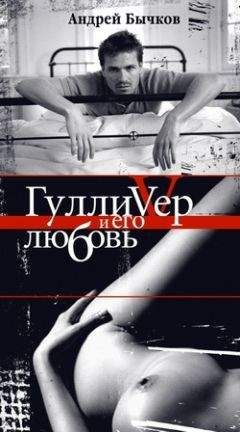Алексей Ремизов - Том 9. Учитель музыки
И я, разве я смею рассказать, а если и посмел бы, то сумею ли рассказать – а это оттуда, из той полосы жизни, когда я перестал верить себе…
Я вижу человеческую душу в ее физическом состоянии, застигнутом, остановившемся во времени: я вижу человека – видали ли вы таких, идет неуверенно, в сущности, без всякого права на существование, а живя на положении дикого зверя, как-то ухитряющегося быть на земле среди высчитывающих свой бюджет, сам без всякого бюджета, хронический «шомер», «лишенец», и не по декрету, а что еще жесточе, по своему какому-то первородному существу ненужного и неподходящего, идет и все губами как будто от спазмы слюну глотает, смиренно уступающий дорогу и готовый всегда первый с вами раскланяться, и не потому, что хочет, а потому что не может иначе, да и нельзя иначе, готовый на все унижения, именно унижения – и ничего-то, ничего не поделаешь! Так это я самый и есть. И вдруг оказывается – получаю в подарок хрустальный меч: я «рыцарь пламенного меча!»
А знаете, на чем бы я душу отвел – знаю, желание мое невозможное и никак не исполнимое. Но это мое чувство, как тогда, как я задумал сжечь все… Больше всего не выношу я «легкости», той самодовольной легкости, которую я всю жизнь домогался усвоить себе… а ведь без этой легкости, куда ни пойдешь, не обойдешься. Так вот бы я и прошелся по мюзик-холлам, дансингам, ночным кабакам, – по всем этим танцулькам, где так легко веселиться и в руках у меня – не хлеб, там не нуждаются, а только бомбы!
Что ж, если никакие революции ничего не изменили и нет никакой надежды изменить человека, вы правы, для его же пользы – вернуть его в лоно и очистить воздух: ведь не только от гнусности и подлости человеческой и всякой путаницы, добавлю и за себя, но и от пустой самодовольной легкости «дышать нечем».
3. Над могилой Болдырева-Шкотта195. 1903-1933Когда гроб показался во дворе Монпарнасской церкви – медленно и важно, а этот двор мне, как тюремный в Таганке, я вспомнил – вот точно так же Шкотт вошел к нам на Villa Flore, где мы жили в 1927 году,196 – и я узнал ее в этом дощатом, очень узком, медленном и важном гробе, как тогда в его очень узком, но опрятном пиджаке, – «глядела бедность».
Последние дни Пасхи – «Христос воскресе», с которого начато и кончено отпевание, и за этим необычным – пасхальным – и при виде черным покрытого и бедными цветами, но цветами! гроба – не чувствовалось смерти. И только там, на дальнем, открытом, как среди пустого поля, Тиэ, когда в одну из узких, рядами заготовленных ям упали первые комья – твердый ком за комом, – земля о деревянную крышку гроба, – этот обратный звук вскрику человека, впервые увидевшего свет, – последний безответный из мира, я всем существом моим до дрожи ощутил глухой и непреклонный голос смерти, но и понял, что уж больше не надо «думать», по крайней мере весь кошмар верональной температуры кончен… а о снах в бестемпературном «смертном сне» я не подумал.
Жизнь Шкотта за эти шесть лет с нашей встречи – круг напряженнейших дум, суровый литературный путь, тяжелая физическая работа и тяжкий недуг.
«А ведь и самому упорному надо какую-то передышку! ну, просто выспаться, переменить место, – тогда и в самом тягчайшем недуге освеженные силы дадут надежду!» Это я сам с собой – не могу помириться, чтобы взять так и – кончить бесповоротно.
А какие они – крокморы! засыпали да не совсем – стоят над незасыпанной: «лопаты на три осталось, завтрашний день кончим!» И догадываться не надо: дал кто-то пять франков – смотрим: а уж все и готово. Дали еще – и уж крест воткнут, цветы кладут. «Такое их мэтье!» – сказал кто-то. Ну, точно дети.
В памяти о человеке всегда остается, хотя бы и последняя мелочь, но что особенно тронет и станет незабвенным: это тогда, еще в первое знакомство на Пасху принес Шкотт маленькую ветку сирени, и веткой-то нельзя назвать, а так лапасток какой-то от ветки с белыми звездочками-цветами, ветку, из которой – и я вспомнил, как однажды в Петербурге, тоже на Пасху, прислали нам «добрые люди» корзину с ландышами – «прямо из Ниццы» – и стоила она шестьдесят рублей, как объяснил посланный, а потом уж в Париже я не раз видел такие корзины, – удивительные свежие ландыши! – но никогда я не видел и только однажды такую ветку, из которой – «глядела бедность», и перед ее болью в вихре моих мыслей и глуби моих чувств осветился стол, комната. Villa Flore, Avenue Mozart – весь Париж. И теперь я все беспокоился о наших последних цветах: ведь крокмору – дело привычное – и не заметит, и не заметишь, сапогом смахнет! – венок от «Технической школы», где последние годы учился Шкотт, к кресту поставили и от креста дорожкой цветы тех, кто в последний раз вспомнил, и вижу, наши – желтые ромашки – память о его материнской родине России, и ландыши.
«В ваших странствиях, Иван Андреевич, дорога привела вас на Villa Flore в мой мир «по карнизам»197 и мир «слова», вы ступили на трудный путь «слова», но слово – «слово без денег, будь оно и самым раскаленным, оно бескровно, ничего!» и что я мог и что могу сделать для устройства литературных дел? – ничего. А моя работа – впрочем, разве я мог удивить вас и самой беспощадной требовательностью? – вы такого крепкого корня: вам напролом и упор – наследственная стихия».
Родословие Шкотта – от «старого Шкотта» – Джемса, Якова Яковлевича, память о котором долго хранилась на Москве: «распахать всю русскую землю усовершенствованными орудиями и научить русских детей английскому языку!» – вот с какой затеей приехал Шкотт в Россию сто лет назад. Сын его Александр был женат на тетке Лескова, и в судьбе Лескова семья Шкоттов имела решающее значение.
Имя Лескова Иван Андреевич слышал с детства, но близости никогда не чувствовал. Не Лесков, а Достоевский, и особенно «Необходимое объяснение» Ипполита из «Идиота» и Кириллов из «Бесов», вот куда обращены были глаза Шкотта.
Умный, а это большая редкость, начитанный, и это нечасто, не пустой человек и не легкий – ответственный, и без этой «шутливой беззаботности», хорошо читал и хорошо смеялся… и большой искусник – делал тонкие миниатюры на слоновой кости и решал головоломные задачи, он добился бы своего и стал бы в литературной работе мастер.
Весной 1927 года перед своей поездкой в Нормандию на работу в Коломбеле в первую нашу встречу Шкотт принес сказку в стиле Леонида Андреева беспредметную, где действует Электрон, Океан и Голоса. Но в разговоре выяснилось, что у него есть русская память – повесть «Мальчики и девочки», погребена в «Современных Записках», а, кроме русской памяти, есть и наблюдения над «живой жизнью» русских в Париже, – ряд рассказов: «Пирожки Ивана Степаныча». С этих «пирожков» и началось его литераторство под фамилией Болдырев.
На металлургическом заводе, где работа была очень деликатная, – «постоянно на сквозняке или иногда приходится под дождем все восемь часов», а после работы в комнате-казарме на четырнадцать человек, Шкотт «настойчиво и упорно» писал «Цветную сумятицу» – его третья тема: «сон и безумие».
«Мальчики и девочки» вышли в 1929 г. отдельной книгой в издательстве «Новые писатели» – «Москва».
Но ни «сны», ни «пирожки» не вышли и продолжения не появлялось, – впрочем, где и появиться? А тут еще «требовательность к себе» и «ответственность» – наварзать-то легко и даже очень, Шкотт очень хорошо понимал всю смехотворность и всю жалость звания «искусственного» писателя или славу «кинематографического» мотылька.
С кладбища нас вез товарищ Шкотта дальними путями, но дорога не показалась утомительной: говорили о Шкоте и его судьбе – невеселое решали – и какой это холод и черствость – круг человеческой доли – на глазах погиб человек! – и со словами руки у меня горели. На набережной недалеко от Сен-Мишель автомобиль приостановился – затор – я заглянул в окно: седые, еще седее показались мне камни Нотр-Дам! – и вдруг на узком тротуаре среди локтями пробивающих себе дорогу… и я узнал ее – «глядела бедность» – это моя – неразлучная сестра со всей ее болью, гневом и моим несмирным смирением.
4. На воздушном океанеКакой срок жизни надо человеку, чтобы начались традиции? – Десять лет. И это вовсе неспроста – такой срок: «давность». И по римскому закону книга, изданная десять лет назад, принадлежит общественному достоянию, и автор освобождается от гонорара или вроде как бы перестает существовать на белом свете, хотя пить и есть просит. За десять лет у кого из русских, живущих за границей, не оказалось такого уголка на чужой земле, который стал бы своим – к которому тянет, несмотря ни на что, как только к тому, что полюбил. Ведь любовь тем и красна, что никогда не за что, а так, «потому что», т. е. бескорыстно.
Для меня таким уголком на чужой земле стал Океан, и я его чувствую, как свое, не почему, т. е. люблю. Я называю его «воздушный», потому что море безбрежно, и, где начинается небо, не различаю: мое окно через зеленый виноградник переходит, как в это утро, в коричневую, цвета ореха, маслянистую шкуру плывущего безглазого, с пепельным хвостом, загибающимся и распущенным высоко над виноградником. По ночам этот хвост убирается мелкими звездочками. Но я полюбил не тихие звездные ночи, а бури со свистящим, ничему не покоряющимся, не знающим ничего, кроме себя, ветром: извеяв и извив все это безбрежно-дышащее, вдруг разлетывается свистом, и это не праздный, раздражающий свист, но слово угрюмой безгласной, только ворчащей, «бормочущей» стихии – моего воздушного Океана. И как мне не любить этот свист – праслово – слово, которому я отдал жизнь. И еще я люблю в дождик идти по дороге, не заботясь, что промокли мои парусиновые туфли, и очки, как заплаканы: в мелкий морской дождь я чувствую свежее дыхание скрывшегося за тучами Океана; Океан ушел туда, и вот плывет надо мной, и это его легкое спокойное дыхание выговаривается у меня словом: «медведь», «пихта», «кипарис». В шорохе пихты и кипариса, как и в медвежьем тепле, есть и заботливость, – ну, что ж, что промочил ноги, подсушит, не Париж, никакого гриппа! – и навеянность, и этот сказочный вей не извне, а в твоих мыслях, это сон самой темной глуби, это напархивающее слово размышлений, в конце которых самосознание, это память – и первая и последняя. А у кого же нет такой памяти и озарения, и как не любить этот морской дождик: ведет, как волна, идти и мечтать.