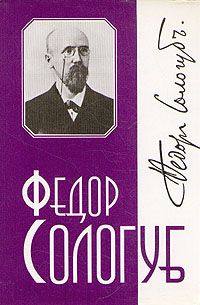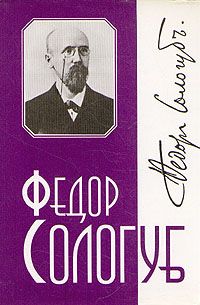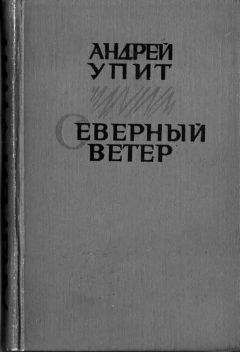Федор Сологуб - Тяжёлые сны
— В школе, и вдруг скандал! Что за дребедень!
— Скандал везде может быть, это тебе всякий мальчишка скажет. Молина выпустили?
— Ну выпустили, — так что ж из того?
— Ну вот то-то, чудак! Всякому лестно посмотреть, придет ли он сюда.
— Что ж, он пришел? Баглаев свистнул.
— Прийти-то ему нельзя, друг любезный, — он в отставке числится, да и неловко. Но публика не соображает, — ей все-таки лестно посмотреть скандальчик.
— Да какой скандальчик, говори толком!
— Мотовилов речь скажет на злобу дня.
— А ты откуда знаешь?
— Я не знаю, я, брат, предвижу. На то я и городской голова: свое стадо знаю даже до тонкости. Я, брат, всю подноготную знаю. Нет, брат, ты у меня спроси, кто что сегодня обедает, так я тебе и то скажу!
Прикладывание к кресту кончилось, отец Андрей снял рясу. Публика усаживалась. Мотовилов занял среднее место за столом, по обе стороны сели Крикунов и отец Андрей.
— Пожалуйста, займите ваше место, — сказал Мотовилов Шестову снисходительно и важно.
Шестов досадливо покраснел и уселся на стул рядом с Крикуновым. Думал о Мотовилове:
"Нахал! Распоряжается, как у себя дома".
Публика волновалась, видимо, ждала чего-то, — теперь Логин ясно видел это по общей озабоченности и радостной возбужденности лиц. Особы постарше делали равнодушные лица; изредка значительно усмехались, переглядывались. Помоложе да понаивнее широко открывали глаза и жадно смотрели туда, в сторону стола под красным сукном, где величественно и грузно возвышался Мотовилов с выражением мудрости и добродетели на лице, морщился и корчился Крикунов, солидно посиживал и поглядывал отец Андрей и сгорал от смущения оглядываемый всеми Шестов. Вначале шло неинтересное. Ученики пропели громко и нестройно гимн святым Кириллу и Мефодию, Крикунов прочел обзор училищной деятельности, потом ученики снова прогорланили две развеселые народные песни, потом отец Андрей прочел список учеников, выдержавших и невыдержавших экзамены. Ученики, награжденные книгами и похвальными листами, подходили к столу и получали свое из рук Мотовилова, а он говорил им благосклонные слова. Потом ученики еще раз запели. Было скучно, — публика томилась от нетерпения и духоты.
Наконец поднялся Мотовилов. Струя оживления пробежала в зале, — и вдруг настала тишина, да такая жадная, трепетная тишина, что нервным людям даже сделалось жутко. Мотовилов говорил:
— Поздравляю вас, дети, с окончанием вашего годичного труда. При этом не могу не высказать вам моего наблюдения: я замечаю на ваших лицах отпечаток грусти. Не стану расспрашивать вас о причинах этой грусти, так как она касается отчасти и нас самих. Мы не видим в своей среде вашего учителя и нашего сотоварища, Алексея Иваныча Молина. Я не имею права вдаваться в обсуждение причин, по которым мы его здесь не видим. Но общественное мнение громко говорит об его невиновности, — и мы уверены, что закон и общественная совесть снимут с него пятно, возводимое обвинением. Мы можем надеяться, что снова увидим Алексея Иваныча в своей среде таким же, каким он был и прежде, полезным деятелем. Прощайте, дети! Идите по домам!
Все зашевелились. Задвигались стулья. Ученики расходились со своими родителями. Гости шумно заговорили. Какая-то барышня спрашивала:
— Только-то и было?
Многие были разочарованы-ждали большего. Казначей говорил:
— Да, это не того, — перцу мало. Надо было этого Шестова хорошенько пробрать.
Исправник заступился за Мотовилова:
— Нет, братцы, он все-таки молодец, енондершиш, за словом в карман не полезет.
— И гладко стружит, и стружки кудрявы, — сказал Дубицкий.
Крикунов был вполне доволен: глазки его весело горели, и он злорадно посматривал на Шестова. Мотовилова окружили: поздравляли, горячо восхваляли речь. Он сиял и самодовольно говорил:
— Я, господа, на правду черт. Я нараспашку, говорю по-русски, режу правду-матку.
Приглашал оставаться на завтрак. Для завтрака очищали место в этой же зале: несколько учеников относили стулья в сторону, сторожа волокли столы, составляли их вместе, покрывали скатертями. Когда лишний народ вывалился, стало свежее и прохладнее. С улицы доносились веселые детские крики, птичий писк и струи теплого воздуха.
— Вы останетесь? — спросил Шестов у Логина.
— Не имею охоты, — улетучусь незаметно.
— Ну и я с вами уйду.
Но не удалось уйти незамеченными: Крикунов бегал по училищу в хлопотах и попыхах и наткнулся на них, когда они разыскивали пальто-
— Василий Маркович! Егор Платоныч! Голубчики, куда же вы?
— Извините, Галактион Васильевич, не могу, — решительно сказал Логин.
— Помилуйте, да как же можно! Обидеть нас хотите. Да вы посидите хоть немножко.
— Душой бы рад, да некогда, не могу! Уж простите.
— Да нет, я вас не пущу. А вы, Егор Платоныч, да вам-то уж и совсем нельзя: ведь вы здесь свой, — как же это можно!
Шестов сконфузился и покраснел.
— Нет уж, я уж не могу, извините, — лепетал он и теребил пальто.
— Ну полно, полно, снимайте пальто! — все решительнее говорил Крикунов.
Шестов уже было повернулся к вешалке. Бросал умоляющие взгляды на Логина.
— Мое почтение, Галактион Васильевич, — решительно сказал Логин и пожал руку Крику нова. — Пойдемте, Егор Платоныч, — сказал он Шестову тем же решительным голосом, взял его под руку и быстро пошел к выходу.
Шестов обрадованно вздохнул. А Крикунов канючил им вдогонку:
— Ну как же это можно! Эх, господа, что ж вы делаете!
Шестов весело смеялся: чувствовал себя в безопасности.
Логин говорил, когда вышли на улицу:
— Не будь меня, пришлось бы вам провести несколько часов в осином гнезде!
— Да, что поделаешь, такой уж у меня характер, не могу отказываться.
— А вы и не отказывайтесь, если не можете; вы только делайте по-своему.
— Да, — жалобно протянул Шестов, — не очень-то это просто.
— Что там не очень! Вы меньше думайте о том, что о вас думают, да как на вас смотрят, а сами внимательнее посматривайте да послушивайте. Вот, хотите, я вам речь Мотовилова на память повторю?
Логин повторил речь от слова до слова. Шестов сказал:
— У вас отличная память!
— Просто развита привычка останавливать внимание на длинных предметах, а остальное на это время выкидывать из головы, чтоб не развлекаться. Да вы никак трусить начинаете?
— Да нет, я ничего.
— Ах, юноша, давно пора выбрать: или полная покорность, или полная независимость, — конечно, в пределах возможного: или мокрая курица, или человек, как надо быть. Ведь вокруг вас все такая дрянь!
В зале училища стол украсился винами и водкою. Принесли пирог с курии ею. Гости уселись за стол. Рюмки быстро опрокидывали свое содержимое в непромокаемые гортани. В соседней комнате хор учеников отхватывал народные песни.
Мотовилов медленно обвел стол глазами и спросил:
— А где же молодой учитель, господин Шестов?
— Ушел, не пожелал разделить нашей трапезы, — смиренно ответил Крикунов.
— Вот как!
— Да-с, и господин Логин тоже не пожелали остаться, — докладывал Крикунов, — они-то, собственно, и изволили увлечь нашего сослуживца.
— А что, господа, — говорил отец Андрей, — вот сейчас Алексей Степаныч изволил выразить надежду на то, что мы снова увидим в нашей среде Алексея Иваныча. Когда еще его формально оправдают, а я думаю, ему горько сидеть теперь дома, когда его друзья собрались в этих стенах, где он, так сказать, был сеятелем добра. Так не утешить ли нам его, а?
— Да, да, пригласить сюда, — поддержал Мотовилов. — Я думаю, это будет справедливо: если он не мог участвовать в официальной части, то мы все-таки покажем ему еще раз, как мы его любим и ценим. Как, господа?
— Да, да, конечно, отлично! — послышалось со всех сторон.
— Это будет доброе дело, — сказал Моховиков, — наше внутреннее сердце скажет это каждому.
— Так уж вы распорядитесь, Галактион Васильевич, — обратился Мотовилов к Крикунову, — он ведь и недалеко живет, а мы подождем со следующими блюдами.
Крикунов суетливою побежкою устремился к сторожам, послать за Молиным. Общество опять радостно оживилось: ждали Молина, как дети гостинца. Он явился так скоро, как будто ждал приглашения, — Крикунов послал за ним коляску Мотовилова. Молин был одет не без претензий на щегольство. На толстой шее белый галстук с волнистыми краями и с вышивкою; новенький сюртук хомутом; пахло от Молина-кроме водки, — помадою.
Гул приветственных восклицаний. Молин обходил вокруг стола, неуклюже раскланивался, пожимал руки и не без приятности осклаблял рябое лицо. Мямлил:
— Утешили! Сидел один и скучал. Признаться откровенно, — хоть и стыдно, — всплакнул даже.
— Ах, бедняжка! — восклицали дамы.
— Стыжусь сам, знаю, что раскис, да что делать с нервами? Расшатался совсем, — сижу и плачу. Вдруг зовут! Воскрес и лечу! И вот опять с друзьями!