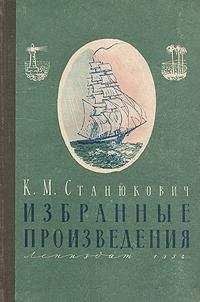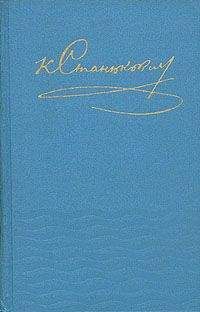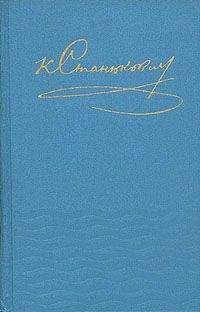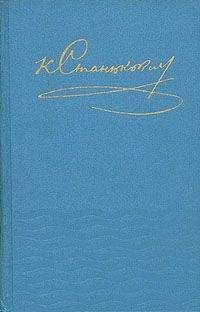Константин Станюкович - Том 1. Рассказы, очерки, повести
Об этом, впрочем, после, а теперь нам предстоит попасть на «конторку», против которой остановился извозчик. Это вовсе не легкое дело, и, чтобы свершить его, необходимо вооружиться немалою решительностью, рискуя при этом принять холодную ванну, ради приятных глаз гг. Игнатова и Курбатова. Сходня, положенная от берега к конторке (причем расстояние между ними было довольно значительное по случаю половодья), представляла собой весьма двусмысленный и едва ли где употребляемый, кроме отечества и еще более диких стран, путь сообщения, особенно для человека, не навострившегося ходить по двум узким доскам, перекинутым над рекой на изрядной высоте, без каких бы то ни было перил и вдобавок еще при порывистом ветре, дувшем сбоку.
Я остановился в нерешительности, предпочитая вызвать с конторки саму фирму, в лице гг. Курбатова и Игнатова, и посмотреть, как она пойдет по воздушным мосткам. Увы, голос мой был таким же безнадежно вопиющим, каким бывает голос русского обывателя, подвергнувшегося ночному нападению в провинциальном городке. Никто не откликался. Ни один из представителей фирмы не показывался. Делать было нечего. Сообразив, что в худшем случае мне предстоит лишь риск купанья, я двинулся решительно вперед по изгибавшимся под ногами доскам и благополучно добрался до конторки.
Там никого не было, кроме сладко спавшего сторожа.
— Неужели у вас нет получше сходни? — спросил я этого единственного представителя пароходной администрации, когда он окончательно проснулся и, присев на лавку, не совсем ласково взирал на виновника своего пробуждения.
— Зачем нет? Есть!
— Так отчего ж вы не кладете ее?
— Кладем, когда нужно.
— А когда нужно?
— Когда пароход отходит, тогда и кладем!
— А в остальные дни можно падать в Волгу?
Этот вопрос приводит сторожа в веселое настроение. Он усмехнулся и, оживляясь, заметил:
— Мы привычные, а из чистой публики редко-редко кто ходит сюда. Оно точно, что можно выкупаться (и опять на его добродушном лице играет улыбка). Доска положена узкая. Долго ли до греха? Я докладывал Кузьме Митричу, доверенному. «Ничего, — говорит. — Зачем хорошую сходню портить?» Да вам что требуется?
Я объяснил, что требуется, и сторож указал мне пальцем на расписание. Оказалось, что тюменский пароход отходит в ночь с воскресенья на понедельник.
— Отчего такой поздний час отхода?
— А это уж не наше дело. Такое, значит, положение.
— И отсюда ваши пароходы уходят по ночам?
— И отсюда по ночам. Сегодня на рассвете вот побежал пароход с арестантскою баржой. А вы, видно, на нашем пароходе хотели ехать? Так раньше недели опять не побежит! Вы лучше на легком. Завтра… И час не ночной, настоящий час, не то что у нас. Всю ночь вот не спал!
Хотя он раньше и объявил, что не знает, почему курбатовские пароходы отходят в такие таинственные часы, но, разговорившись, не замедлил сообщить свое мнение по этому поводу, а именно что всему «причина арестантская баржа». По ночам удобнее проводить «такого пассажира», народ известно какой. Чего его среди бела дня всем показывать? И для вольного пассажира меньше беспокойства: он и не увидит, как приведут, рассадят, замкнут голубчика и гайда! Опять же и любопытных нет. Кому ночью-то охота глазеть?
— А партия сегодня большущая была. Один генерал в ней был! — значительно прибавил словоохотливый сторож.
— Какой генерал?
— Настоящий, из Питера… Запамятовал, как звать-то его… В Сибирь засудили! Сказывали, будто за то, что какую-то банку неправильно ограбил. Только, поди, врут. Нешто за это генерала пошлют в Сибирь? Верно, за что-нибудь другое.
Я заметил, что за это иногда посылают.
— Бог его знает! — недоверчиво покачал головой сторож, закуривая папироску. — Сказывали, важный был прежде генерал… Старый такой, престарелый и одет в хорошую одежду. Ему и каютку отдельную отвели на барже. Сиди, мол, не тужи… и всякой провизии и вина с ним взято. Деньги-то, видно, припрятаны. А следом за ним барышня молодая приехала с нянькой… Дочь евойная. Такая молоденькая, из себя аккуратная, только худа больно. Плачет, бедная, слезки так и текут, как стала проситься, чтобы пустили с ним на барже… Одначе не пустили. Так это она на пароход. Отдельную себе каюту в первом классе взяла с нянькой. Я вещи ей носил. Вещей много, и все фасонистые такие чемоданчики да ящички, и пахнут духом каким-то. Только принес это я последние вещи, она дает мне рубль, а сама так и заливается. «Бог милостив, говорю, сударыня, а сокрушаться грех. Иногда, говорю, и безвинно люди терпят!» Она это взглянула на меня сквозь слезы ласково так, кротко, словно малое дитя, а сама вся дрожит. «Премного, говорит, благодарна за ваши слова, — и ручку протянула, — но только не в пример было бы мне легче, ежели бы папенька безвинно принял крест!» Проворковала это она и ничком в подушку! Только головка вздрагивает. Тут нянька махнула сердито рукой на меня, чтобы уходил. Потом выбежала за водой и на ходу говорит: «Это ты, сиволапый, барышню так расстроил!» А я что? Пожалел только.
Он помолчал, сделал несколько затяжек и прибавил:
— Нянька после сказывала, что они с барышней-то этой издалека приехали. В чужой земле где-то были по той причине, что у барышни какая-то болезнь в груди. Так, значит, пользовалась теплом. Она, видишь ли, и не знала, что отец-то набедокурил, скрывали от нее, а как узнала, запросилась к отцу. Отец не допустил сперва, чтобы она ехала домой. Так она самовольно. В Москве отца-то и встретила. Да. У него и другие дочки есть, но только не такие жалостливые, как эта, меньшенькая. Нянька сказывала, что на редкость барышня. Отца-то своего, небось, пожалела! — одобрительно заключил сторож.
— Давно вы здесь сторожем?
— Я-то? Второе лето. Да ну их совсем… Уйду! — неожиданно проговорил он с сердцем. — Одна тут неприятность.
— Место худое?
— Место ничего бы, если б не эти проклятые арестанты. Тут, братец ты мой, всего насмотришься. Лучше бы и не видать. Особенно когда это бабы да дети провожают. Рев идет. Ну и ежели опять об этих самых арестантах подумать…
Он махнул рукой и умолк.
Я собрался уходить. Добрый человек предложил было проводить меня обратно, но я уже с меньшим страхом смотрел на обратное путешествие и отправился один, посоветовав сторожу еще раз доложить «Кузьме Митричу», что если он прикажет положить хорошую сходню, то избавит фирму гг. Курбатова и Игнатова от многих лишних проклятий.
— Им что… не им ходить. Известно, хозяева! — проговорил вслед сторож.
Конторка пермского пароходства, к которой подвез меня извозчик, оказалась легко доступною. Тут же стоял пароход, готовящийся к рейсу. Его мыли и чистили. Капитан, любезно показывавший мне его, с гостинодворскою бойкостью, обычной на Волге, выхвалял всевозможные удобства своего парохода и, перечисляя ряд предстоящих наслаждений, старался дать понять, что умеет при случае говорить более или менее высоким слогом.
Мой несколько прозаический вопрос относительно персидского порошка, казалось, озадачил этого щеголяющего обращением, толстого, мягкотелого и сияющего здоровьем молодого человека. Он только что, между прочим, «кстати» рассказал, какие все хорошие пассажиры были у него в последнем рейсе (генерал, два исправника и несколько богатых купцов с женами) и как они все даже жалели, что доехали до места назначения, а его вдруг спрашивают о таком низком предмете.
Выражение презрительного изумления и чего-то юпитерского засветилось в маленьких, заплывших глазках капитана, сменив любезную улыбку, не сходившую до моего злополучного вопроса с его сочных уст, и, вероятно, единственно из снисхождения к невежеству пассажира, вдобавок пассажира, собирающегося занять шесть мест, он не сразил его гордым молчанием, а отвечал не без достоинства оскорбленного величия, что «неприличный зверь», на которого я намекаю, анахронизм, по крайней мере у них на пароходах (за пароходы других хозяев он не отвечает), и что пароходная администрация, в заботах о пассажирах, не упускает из вида никаких мелочей и щедро посыпает персидским порошком каюты после каждого рейса.
— Позволительно думать, вы никогда не изволили свершать экскурсий на наших пароходах? — заключил он вопросом.
— Не свершал.
— Это и видно! — проговорил капитан, взглядывая на меня с сожалением, как на несчастного человека, до сих пор не испытавшего такого удовольствия. — Зато теперь увидите! — торжественно закончил он, пропуская меня в одну из семейных кают второго класса.
Грязь, которую я увидел, и вонь, которую обонял, по-видимому, показались чрезмерными даже и почтенному капитану волжского парохода, и он поспешил заметить:
— Каюты еще не совсем приведены в порядок и потому не производят надлежащего впечатления, но к завтрашнему дню вы их не узнаете, могу вас уверить!