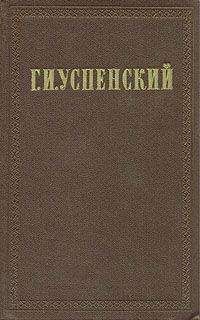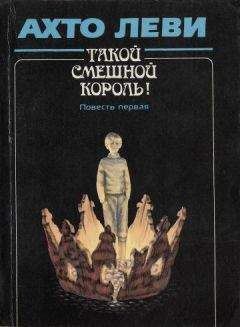Глеб Успенский - Новые времена, новые заботы
Наконец, кое-как оболванив свои произведения, он вновь пошел в редакцию и на этот раз уже с замиранием сердца ожидал рокового дня.
Через неделю, по обыкновению редакций, день наступил. Дрожа как лист, Федор отправился за ответом.
Не скрывая презрения, редактор с первого же слова почти завопил на Федора.
— Да что вы хотите? Что такое вы тут выводите? Что вам хочется оказать?
— Я…
— Что богатые богаты, бедные бедны? Да?
— Я…
— Что бедные — такие же люди, как и богатые? Так, а? Да?
— Так…
— Что несправедливо обижать, заедать? Да? Это? Потом — кисельные берега, молочные реки… Всеобщий лимонад-газес? Так?
— Я этого не писал… Я там…
— Так я вам скажу, — вне себя завопил редактор, чуть не по носу хлопая Федора его рукописью: — что, во-первых, все это давно всем надоело и без вашей белиберды, а во-вторых, за эти идеи… вы знаете — что за это?
И он прибавил внушительным шопотом таких два словечка, от которых Федор вновь ощутил приступ необычайного испуга и едва не закричал как помешанный: "боюсь!"
Отчаяние овладело бедным малым в сильнейшей степени. Он шатался по коридору меблированных комнат, никого и ничего не замечая, ничего не видя и не слыша, и только по временам, останавливаясь, как вкопанный, перед первым встречным, бормотал:
— Всем известно! Кабы всем было известно, ничего бы не было.
Или что-нибудь в таком роде:
— В тюрьму!.. Да хоть в каторгу… Известно!.. Совести-то в тебе нет!..
Чтобы мало-мальски помочь ему, успокоить его, рассказчица, со слов которой написана Федорова повесть, пыталась вступить с ним в разговоры, пыталась успокоить его тем, что не с ним одним такие неудачи, указывала ему, как умела, на больших, крупных поэтов, великих людей… Федор, не произнося ни слова, напряженно-внимательно вслушивался в ее речи — ведь ничего он этого не знал. Не знал он, что и до него писалось, — и боже мой сколько! — стихов на те же темы, что и до него были люди, знавшие беду и желавшие помочь общему горю… Ничего он этого не знал и только ужасался, слушая эти рассказы. Когда рассказчица прочла ему два-три сильных стихотворения, касавшихся поглощавшего Федора предмета, он заревел и проговорил:
— И ничего?
— Что ничего?
— Так ничего и после этого?..
— Покуда ничего…
Федор ревел.
Чтобы успокоить его, она приводила ему еще более сильный пример неудачи, рассказала ему почти все главнейшие события истории и вместо успокоения только ужасала его и ужасала…
— И тут ничего не вышло?
— И тут… Да еще что!..
Корявый, безграмотный, измученный человек с каждым словом своей собеседницы все неотразимее убеждался, что он — ничто, мразь, ничтожество сравнительно с теми, кто и до него печалился о делах света белого. Рассказы девушки доказали ему все его бессилие, все его бесправие, всю безнадежность его существования…
Испуган он был прошлым и еще больше испугался теперь, узнав, что "покуда ничего не вышло".
Он окончательно ошалел, и все жильцы комнат думали, что он худо кончит… Как помочь ему — никто не знал. Как уверить его, что он не безграмотен, что у него есть будущее, что ужас прожитой действительности можно забыть и что есть какая-нибудь возможность сделать то, что на чердаке нижегородского трактира задумал делать Федор?
Многим было жаль его, но все молчали и ждали… Наконец дождались.
Однажды Федор неожиданно исчез с утра и воротился в два часа ночи, с шумом подкатив на извозчике. Он был жестоко пьян. Полагали, что косушка и будет прибежищем этому нескладному несчастливцу: однако вышло не так… Очнувшись, Федор стал что-то смутно припоминать, и, по мере того как память восставовляла ему прошлый день, им начинало овладевать что-то ужасное, какой-то необычайный испуг… Такого полного бессмыслия, в которое впал несчастный, с ним никогда не было. На расспросы рассказчицы он только отвечал: "Свинья! Продал!" — "Кто, что продал?" — "Я… Все! Всех!" Потом, после новых продолжительных попыток привести его в сознание, он пробормотал: "Он мне сам сунул… в руку…" — "Что сунул? кто?" — "Да этот… злодей… надоело всем… вот…" — "Редактор, что ли?" — "Он сам сунул…" — "Что сунул-то?" — "Деньги… Я так шел… он мне ткнул… Свинья, христопродавец я…"
— Я, — говорила рассказчица, — несмотря на все старания, ничего более от него не могла добиться. Подумаю, что дело было так: шел он, должно быть, по улице и наткнулся на редактора, который так его недавно озадачил. Быть может, вид его был очень жалок, или редактор был в хорошем расположении духа, только последний мог предложить, "сунуть" ему бумажку… Почему-нибудь, очень может быть что по рассеянности, Федор взял ее, — по рассеянности и не соображая, что делает, выпил, напился… И вот теперь, очнувшись и сообразив, что сделал, ужаснулся. С его точки зрения, поступок этот в самом деле должен был казаться ужасным. Взяв деньги от человека, который объявил ему, что ему надоели все эти страдания, о которых Федор болел душою, Федор продал свое право страдать за людей, сам оказался дрянью, которая может от рюмки водки забыть двадцать лет возмутительной неправды… До этой минуты он знал, что он — ничтожество, знал, что он беззащитен на белом свете и что нет защиты у этого света ни от кого; теперь он убедился, что об этом ничтожестве и хлопотать-то не стоит… Прежде он был испуган людьми, а теперь испугался сам себя. Теперь он всего испугался и в таком испуге не замечал, что не пьет, не ест и умирает с голоду. Я думаю, это было так. Впрочем, может, и ошибаюсь…
На этом рассказчица кончила.
Третий звонок торопил клубную публику выходить из зал. Собеседники стали прощаться, унося домой невеселое впечатление.
8. ТРИ ПИСЬМА
(Из воспоминаний "безнадежного")
— Вы что это пишете?
— Письмо…
— Кому это?
— Матери…
— О чем?
— Да так, обо всем.
— Уж что-то вы больно долго!..
Такие вопросы, ровно пятнадцать лет тому назад, в один скучный осенний вечер, самым недовольным тоном задавал я моему сожителю по комнате. Дело происходило в Москве, на Живодерке, в одном из несчастнейших деревянных домишек, в оборванных, грязных, нищенских комнатках которого обитало великое множество народа. В этот памятный мне вечер (почему он мне памятен, читатель узнает ниже) я был особенно расстроен и ворчлив. Не последнее место в этом состоянии духа занимало то, что из дому вот уж второй месяц мне не присылали денег, и это обстоятельство, понемногу раздражая меня напрасным ожиданием, наконец довело до значительного расстройства именно в тот унылый осенний вечер, пятнадцать лет тому назад. Все мне было противно, пошло, тоскливо и враждебно. Отвратительны были всхлипывания квартирной хозяйки, доносившиеся из кухни: эта старая дура вот уже шестой месяц, то есть все время моего пребывания в ее скверных комнатах, "разъезжается" с своим возлюбленным, хромым портным, подряд шесть месяцев они каждый день напиваются пьяны, плачут, ругаются и засыпают тут же в кухне, поникнув головами на стол, а с утра вновь начинаются упреки, слезы, похмелье, пиво, словом — полное прощание. "Иди, иди! сделай одолжение!" — утирая нос грязным подолом, хрипела хозяйка… "И уйду! Раззорительница моя! Уй-ду!.." — "Иди, иди!" — "Уй-ду! У-у…" И это с утра до ночи, и никто не уйдет, и оба целый день пьют и в самом деле разоряются.
Так бы вот пошел и разогнал их в разные стороны… Сердила меня и эта засаленная нищенская комната, и эта кровать, на которой нельзя было повернуться мало-мальски либерально, чтобы не провалились либо нога, либо голова; скверно действовал и этот тусклый свет низенькой лампы, и табачный дым, и холод, и низкий потолок, и дождь… Но более всего возмущал меня мой сожитель по комнате, терпеливо скрипевший пером вот уж без малого третий час и решительно, казалось, не чувствовавший, не понимавший того, что я испытывал, лежа на кровати. Когда-то, лет пять-шесть ранее этого скучного вечера на Живодерке, мы учились с этим человеком (его называли в гимназии "иностранец", так как отец его был швейцарец, хотя сам "иностранец" родился в России и от русской матери): в гимназии мы провели вместе четыре года до четвертого класса, но потом я перешел в другую гимназию, в другой город, уехал по окончании курса в Петербург в университет и, прошатавшись целый год (зиму, весну и лето), перебрался в Москву… Если читатель припомнит, какое впечатление могли произвести на провинциального гимназиста 61-й и 62-й годы, то он поймет разумеется, что, явившись после этого года "посвящения" в Москву "для продолжения моего образования", я не столько был объят желанием посещать университетские лекции, сколько стремлением — увы! в высшей степени неопределенным — стремлением к деятельности. Чтобы не вводить читателя в обман, скажу прямо, что из меня не вышло деятеля (это все будет ниже) и что, следовательно, ему нет никаких резонов рассчитывать на то, чтобы на нижеследующих страницах были воскрешены в его памяти какие-нибудь минуты тех дней. Пишущий эти мемуары не оправдал надежд на самого себя и в смысле "деятеля" ровно ничего представить не может… Но пятнадцать лет тому назад ожидания эти у меня были и, сливаясь вообще в представление о необходимости "деятельности", и притом где-то не здесь, в пошлой и мучительной глупой действительности, а где-то там, неизмеримо выше ее, заставляли меня с большим пренебрежением смотреть на мелкую людскую гомозню. "Все связи, — как я тогда был совершенно уверен, — со всем этим — я порвал". Для меня не существовало ни родителей, ни родины, ни желания выбиться в люди и для этого ходить на лекции, словом — не существовало ничего "старого", все это осуждено было в виду чего-то громадного, нового, которое принадлежит не "им", а "нам"… "Они" — пожалуй, могут высылать мне несколько денег "пока" — но и только… Так казалось мне в первые, самые ясные минуты моего пробуждения, и вот в таком-то настроении встретился я на одной из московских улиц с этим "иностранцем". Я был рад старому товарищу, рад был порассказать о чудесах, которые я видел, снисходительно пропуская мимо ушей его рассказы о гимназическом начальстве, но очень скоро оказалось, что он меня "не удовлетворяет". Правда, он также не ходил в университет, но не потому, чтобы "презирал", а потому, что у него не было денег, потому что он должен был давать уроки, посылать ежемесячно деньги матери, которая также жила уроками в том же городе, который я уж из головы выкинул… Какая-то узость цели и притом однообразие недель и дней, посвященных на ее достижение, свидетельствовали о несомненной ограниченности этого человека… Правда, не получая из дому денег и не посещая университета, я не делал ничего другого, как сопровождал этого же самого ограниченного человека по Москве в его поисках уроков, поджидал его где-нибудь в садике или просто на улице, покуда он заходил в тот или другой дом, согласно объявлению в "Полицейских ведомостях", вызывавшему учителя; правда также и то, что я был очень обязан ему за то, что он внес за меня деньги хозяйке, что я курил его табак, пил его чай, и т. д., и т. д.: но все это — и эти одолжения и это праздное мое шатание — я ставил под рубрику "Пока" и не придавал ни тому, ни другому особенного значения. Я не ставил себе в вину и этих праздных ежедневных прогулок по Москве, потому что в продолжение их я ни на минуту не прекращал выяснять (насколько понимал сам) мои новые взгляды, надежды и ожидания и вовсе не замечал, что уже третий месяц "шатаюсь", да еще "по Москве". И не то чтобы несочувствие к моим разговорам и новым стремлениям обижало меня в этом "иностранце", — нет, он, напротив, ни разу не прервал меня, ни разу не поспорил со мной, скажу даже более, он, казалось, даже внимательно прислушивался к каждому моему слову; но я видел, к великому моему огорчению, что слова мои ни на волос не изменяют ни его поведения, ни его взглядов, ни желаний… Слушает, слушает, кажется, внимательно, потом неожиданно вздохнет и скажет: "ах, уроков, уроков!" — точно обдаст холодной водой. И притом каждый день одно и то же: утром чем свет — чтение "Полицейских ведомостей", трехкопеечная булка с чаем вприкуску, потом беготня по адресам, рассказы самые подробнейшие о том, кого он видел, что ему сказали, когда велели прийти, и затем описание всей этой скуки то матери, то брату, то сестре… Кажется, никакими барабанами нельзя было, хоть на единую минуту, расшевелить эту ограниченность, заставить его почувствовать всю прелесть предстоящей всему молодому деятельности. В редких случаях он иной раз вздохнет и как будто задумается, но это еще неизвестно, потому ли он вздыхает, что восчувствовал, или все потому же, что нет уроков. Глядя на эту неподвижность мысли "иностранца", я тогда же решил, что из него ничего не выйдет, "выйдет" учитель и больше ничего, — а уж это что ж за будущность и что за поприще!.. Все его знакомые, посещавшие нас, также крайне меня стесняли, так как блистали также ограниченностью: это были какие-то иностранцы портные, чуть не сапожники, служащие в каких-то конторах и т. д. Все они говорили про места, кто сколько получает, бранили хозяев, все поголовно желали прибавки на скромные суммы, рублей в пятнадцать, в десять, звали в свободное время в портерную — и только; узость их целей и желаний была ниже всякой критики. С этим народом я не находил возможности сказать ни единого слова, а между тем "иностранец", повидимому, так сжился с ними, что иной раз покидал меня, и покидал в самые патетические для меня минуты, когда мне непременно нужен был слушатель, — покидал для того, чтобы идти к какому-нибудь из этих провизоров, этих портных на свидание для разговоров о каком-то письме, полученном от родственников, или для получения сведений насчет тех же уроков. Я уж давно подумывал разойтись с этой "утомительно-узкой" сферой взглядов, в которой мне пришлось быть благодаря "иностранцу", его приятелям и безденежью, но безденежье, а главное что-то хорошее, что я не трудился определить в ту пору, невольно как бы связывало меня с ним, даже влекло к нему… Возвращаясь домой, в тех случаях, когда я не сопровождал его, он всегда радовался совершенно по-детски, что я дома… "Ели?" — всегда был первый вопрос, который он мне задавал, входя в комнату, и всегда вслед за этим с сияющим лицом вытаскивал булку и колбасу или яйцо. Он всегда расспрашивал меня о том, что со мной было, пока он уходил, а потом уже начинал рассказывать, что делал он сам и где был. Что-то нежное, женское проглядывало в бесчисленных мелочах, и, должно быть, эта-то черта и смягчала мою к нему холодность, потому что бывали минуты, когда я, "разорвавший со всем", уже чувствовал холод одиночества… "Есть ли у вас платок?", "Есть ли табак?", "Полотенце там и мыло там!" — указывал он и спрашивал меня непременно всякий раз, когда уходил на поиски; выглянет в дверь и спросит: "все есть?" и только получив утвердительный ответ, уйдет, сказав: "ну, прощайте!", и после того еще непременно раза два второпях воротится: "если уйдете — приходите скорей!.."