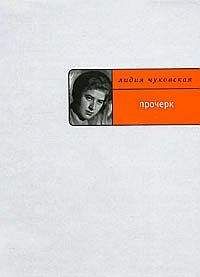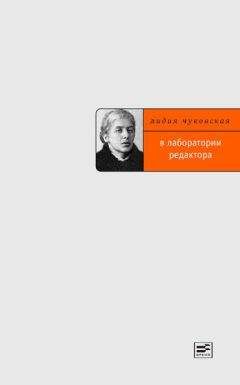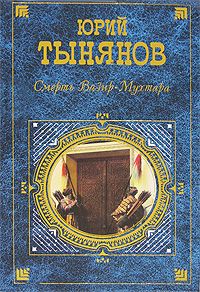Юрий Тынянов - Смерть Вазир-Мухтара
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
1
Грибоедов въехал в город Тебриз 7 октября. Он ехал верхом. Он снял очки, неприличные при сем случае, и Тебриз казался ему разноцветной колышущейся выветренной глиной. Тяжелый караван шел за ним. Сто лошадей, и мулов, и катеров везли за ним Нину, Мальцева, Аделунга, Сашку, армян, грузин, казаков, кладь. Он ехал так прямо, как будто конь его по близорукости боялся сбиться с пути. Стреляли французские пистолеты, трещали фальконеты сарбазов, какая-то желтая персиянская рвань по бокам галдела, и ехал навстречу медленно, на пританцовывающей кобыле чернобородый, улыбающийся, изнеженный Аббас-Мирза - голубое с белым. Что-то шевелилось за Аббасом, за свитой, за полками, словно шевелились серые палатки, - шли слоны. Грохот барабанов встречал победителя, ровный, глухой, безостановочный. Ворота Тебриза закрылись. Были выметены дорожки у английской миссии, как сени. Жеребцы храпели, наезжая на оборванцев. Барабаны били.
2
Снизу слышался смех - это Нина, леди Макдональд и юный Борджис из английской миссии играли в новую, только что привезенную игру. Круглый, полный стук шаров, потом шорох платьев и смех. Кабинет был убран хорошо и спокойно, без маменькиных штучек, не голые палаты Паскевича. Он был с кожаною мебелью, глубокими английскими креслами, в которых можно курить, но нельзя отчаиваться. Путь был дальний, месячный. Путь и лихорадка. И лицо Нины. Камни, версты, халаты были позади. Камень у Амамлы, могила Монтрезора, русского майора, который был послан Цициановым за провиантом, подвергся нападению и, видя, что все заряды вышли у него, бросился на орудие, крепко его обнял и так был изрублен, и - стал Монтрезоровым камнем. Халаты, сотни халатов ханских у Эривани - всех этих Мамед-ханов, Амед-ханов, Паша-ханов, Джафар-ханов, которых с этого времени Нина зовет вообще: чапарханы. И речь эриванского плац-адъютанта: "Эриванское ханье честь имеет... " И цветные мантии, армянские золотые хоругви у моста через Зангу, встречавшие его, как будто он был королем Болдуином и шел на Иерусалим. И обеды из тридцати блюд, и депутации от курдов в пестрых чалмах, в шароварах-юбках, с древними щитами, похожими на дамские соломенные шляпы, с копьями, на которых волосатые султаны трепались, как головы врагов. Все отступились. Он был один в кабинете, и курил, и улыбался, когда внизу выделялся Нинин голос. Он ждал своего гаремного часа и отдыхал, курил. Он очень постарел за болезнь. Новое государство затерялось в папках Нессельрода, квитанциях Финика. После разговора с Бурцевым он более не думал о нем. Песня. Песня в нем гуляла, болела, назревала, бродила и рассыпалась. Это не о новом государстве он думал, не из-за него старался, а из-за старой русской песни он бился, которая сменит нежные романсы Сашки и альманашников. Теперь, когда он постарел и молодость сняли с него, как тесное платье, он это понял. Не театр военный и не театр Большой, не министерство иностранных и престранных дел, не журналы лавошников и чиновников, а хотел он построить простую, прямо русскую, не петербургскую, древнюю песню, полунощное слово о новом полку Игореве. И пробудет он здесь месяц или год, самое большое, у этих чапарханов, будет честным царским чиновником, слушаться будет Паскевича, и ему дадут награждение. А на деньги он будет жить в уединении, в Нинином Цинондале. Там будет его труд. Людей не нужно ему. К чапарханам он будет грозен, когда надо, а когда надо, и милостив. Так легче с ними. И так как людей он знает и люди тошны ему по этой причине, удастся ему эта бестолковая музыка - быть представителем десяти властей у двенадцати. Ничего, что он устал и нездоров еще, что как будто он взбирается на шестое жилье и на четвертом заметил, словно остальные два подъема и лишние. Голова на плечах, Нина смеется внизу. Он курил и перелистывал английские журналы, новенькие. Перелистывал и прислушивался к стуку шаров и веселому спору внизу, и вдруг перестал прислушиваться. Он читал. "Известный актер Эдмунд Кин снова вернулся в Лондон. Причина его отъезда - то обстоятельство, что он был освистан лондонскою публикою в Кобургском театре. Сей достопамятный скандал завершился тем, что г. Кин, подойдя к рампе, с обычным хладнокровием своим сказал зрителям: "Я играл во всех образованных государствах, где только говорят по-английски, но никогда еще не видел столь грубых скотов, как вы". Грибоедов согнулся над тонкой книжкой "Review". "Вскоре после сего случая г. Кин распрощался с Англией и отправился в Америку. Но, будучи от природы тщеславен, г. Кин не столько был польщен успехом своим как художника, сколько тем, что одно индейское племя, у которого прожил он некоторое время, избрало его в число вождей своих. Вот что сказывает по сему поводу друг его, лицо почтенное, наш известный журналист Г. Ф.: "Мне доложили, что меня приглашает к себе индейский вождь по имени Элантенаида, на карточке же, оставленной сим вождем, значилось имя Эдмунда Кина. Я отправился в гостиницу, и слуга указал мне его нумер. Комната, куда я вошел, была освещена весьма тускло, и лишь в противоположном ее конце яркая лампа освещала подобие подмостков, а на них некое подобие трона, на коем восседал вождь. Я приблизился и невольно содрогнулся... " Смеялся внизу юный Борджис, и коротко засмеялась Нина. Грибоедов вздрогнул, смех был слишком ясный, почти грубый, как будто смеялись в комнате. Он зажал себе уши. "... фигура, которая предстала моим глазам. На плечах у странного этого человека была накинута медвежья шкура. Сапоги, нечто среднее между штиблетами и сандалиями, утыканы были иглами дикобраза. На голове орлиные перья, сзади ниспадала черная лошадиная грива. Золоченые кольца в носу и ушах. За широким поясом томагавк. Руки его, украшенные браслетами, по временам протягивались судорожно вперед, точно желая что-то схватить. Он спустился с трона своего и стремительно подошел ко мне. Глаза его дико блестели. - Элантенаида! - воскликнула хриплым голосом фигура... " - Фигляр, - сказал, пожимая плечами, Грибоедов и вдруг нахмурился. "По голосу тотчас же узнал я Эдмунда Кина. Гуроны допустили его в племя свое и избрали вождем под именем Сына Лесов, каковой титул он ныне присоединяет к своему имени. Передают, что уже в Дрюрилене утверждал он, будто никогда не чувствовал себя столь счастливым, как среди гуронов, когда дали они ему титул вождя". Грибоедов швырнул книгу. Этот несчастный актер, освистанный, который принужден был бежать из Англии, как он сам восемь лет назад бежал из Петербурга, зачем не остался он у гуронов, зачем фиглярил перед этим журналистом, позорил обычаи людей, среди которых жил, и свое звание? Или любовь к театральному тряпью больше всякой другой, и как пьяницу тянет усыпанный опилками пол кабака, так и у актера и драматического автора в известный час после обеда заноет какой-то червь в груди - и он отовсюду убежит и всех покинет? Он поймал себя на мысли, что собирался строить свой театр домашний, в Цинондалах, и усомнился: кто же играть будет? Тогда вдруг понял, что трудно ему будет жить без того, чтоб свое "Горе" не увидеть на петербургском театре. Он придвинул опять книжку. "По возвращении г. Кин не имел успеха в роли Шейлока". И захлопнул ее. Журналисты, сволочь мира сего, живущие за счет дымящихся внутренностей. Господин Ф... Нина стояла на пороге. И он протянул к ней весело руки.
3
Крик стоял на дворе. Пять голосов кричали по-персиянски: - Нет. Нет. Нет. Нам не нужно никаких денег, мы принесли эту козу от велиагда, и пусть Вазир-Мухтар ест ее с удовольствием. Было всего семь часов. Грибоедов прислушался. Жирный голос Рустам-бека покрывал персиянские крики: - Я довольно вам дал, и совершенно довольно. Рустам-бек приходился дальним родственником княгине Саломе и поэтому заведовал хозяйственной частью. Грибоедов невольно взглянул на спящую Нину, как бы ожидая от нее ответа. Повторялось это, к сожалению, часто. Каждый день от Аббаса приносили то плоды из его сада в тяжелых корзинах, то козу, "собственноручно убитую его высочеством", то конфеты на серебряном блюде. Гулям-пишхедметы, как и подобает камер-юнкерам, стояли скромно, они ожидали приличной мзды за труды и удивились бы, вероятно, если бы узнали, что Вазир-Мухтар называет это: давать на водку. Бог, если уж не поминать княгини Саломе, послал Грибоедову двух людей, с которыми он не знал, что делать: Рустам-бека и Дадаш-бека. Рустам-бека, с лихими курчавыми усиками, он назначил поэтому заведовать хозяйством, а Дадаш-бек так и болтался без дела. Грибоедов звал их Аяксами. Денег было действительно мало до ужаса. Финик до сих пор не распорядился высылкой. Но Аяксы вели себя в этих случаях, как привыкли вести себя в Тифлисе с татарами-продавцами. - Берите свою козу и убирайтесь на все четыре стороны, - ревел на дворе Рустам-бек. - Это коза? Это кошка, - помогал ему Дадаш-бек. - Нет. Нет. Нет. Не нужно нам денег. Ешьте на здоровье, - горланили гулям-пишхедметы и не трогались с места. Грибоедов накинул халат и шмыгнул в кабинет. Там он сел в кресло и только уже потом медленно и лениво подошел к окну и окликнул Аяксов. - Давайте каждый раз столько, сколько я приказал. - Посмотрите на козу, Александр Сергеевич, - багровел внизу, подбоченясь, Дадаш-бек, - это кошка. Ведь это не от велиагда. Они сами приносят всякую дрянь и дерут с нас втридорога. Они нас обманывают. - Дадаш-бек, это не ваше дело. Аякс пожал широкими плечами, а камер-юнкеры, получив на водку, ушли довольные. Грибоедов знал, что дня через два это снова повторится. Пора было идти суд судить, а к двенадцати он должен быть у Аббаса. По три раза в день он виделся с его высочеством. Напялив мундир, в котором было жарко и неудобно по утрам, он спустился во внутренний дворик. Там уже ждали его. Казаки вытянулись и стали на караул. Люди примолкли. Грибоедов отыскивал глазами очередного родителя. На этот раз им был старенький немец-колонист. Вместе с Грибоедовым приехали в арбах, в повозках, в старинных колымагах и телегах эти родители, армяне, немцы, грузины, у которых были взяты в плен или похищены дочери. Родители жили в караван-сараях, шатались по базарам, пропадали по окрестностям, выспрашивали, вынюхивали, а потом являлись с доказательствами, что дочка живет у сеида Мехмед-Али или у сеида Абдул-Касима. Грибоедов вызывал сеида, и сеид являлся с невинным лицом. В пространной речи он доказывал, что никакой дочки в гареме у него нет и что сосед его, пустой, дрянной человек, наплел на него. После долгого прения с родителями, взглянув попристальнее в очки Вазир-Мухтара, он соглашался привести дочку, "если только это она". Начиналось третье действие комедии о блудной дочке - дочка являлась. Это как раз и происходило теперь. С видом скромным и равнодушным стоял сеид в меховой шапке, усатый и толстогубый. Старенький родитель в очках, перевязанных веревочкой, стоял, заложив руки за спину. И перед ним была дочка. Дочка большая, как идол, величавая, с белобрысыми кудерьками по височкам. По загорелому лицу густо насели светлые веснушки. Двое детей тыкались ей в тугие колени и обтягивали шелк на рубенсовых бедрах. Увешана она была бусами, в ушах висели тяжелые серьги, а на руках блестели перстни, толстые, как черви. Старенький родитель смотрел на нее помаргивая, не без боязни. Рубашка у родителя была новенькая, чистая. - Сусанна, - говорил родитель сладко, как говорят толстой кошке, от которой можно ждать неприятностей, - Сусанна, дитя мое. Дочка молчала. Казаки смотрели на нее во все глаза. Грибоедов стал творить суд. - Признаете ли вы господина Иоганна Шефера родителем своим? - спросил он дочку по-немецки. - Aber, um Gottes Willen, nein (1), - ответила дочка голосом грудным и густым, как сливки. Родитель заморгал красноватыми глазками. - Ваше фамильное имя? - Я позабыла, - ответила дочка. - Sie hat schon den Familiennamen vergessen (2), - отметил с горечью родитель. - --------------------------------------(1) Клянусь богом, нет (нем.). (2) Она уже забыла свою фамилию (нем.). - Сколько лет вы замужем? - Шесть лет и три месяца, - ответила дочка точно. - Вам хорошо живется? - Благодаря бога. - Не притеснял ли вас ваш родитель? - Excellenz (1), - сказал оскорбленный родитель и прижал руку к груди, - она жила у нас как кукла, wie'n Puppchen. - Puppchen? - спросила дочка и оттолкнула детей. - Ptippchen? спросила она и подалась вперед. Отступил родитель. - Коров доить? - кричала дочка, - пшеницу жать? - наступала она на старика, - сено сгребать? Сусанна - туда, Сусанна - сюда? Вы постыдились бы, Vater (2), смотреть мне в глаза, если б вы не были такой жестокий, бессовестный человек. - Erziehungskosten? -отбояривался тонким голоском родитель. Воспитание? Кто тебе дал воспитание? Сколько! Сколько оно стоило! Sakrement! (3) - Я вас вижу в первый раз, - сказала дочка величаво, и грудь у нее заходила. - Документы, - совал дрожащими ручками родитель грязные клочки в руки Грибоедову, - Excellenz, вот все мои документы, и извольте усмотреть. Грибоедов смотрел с некоторым удовольствием на дочку. Излишен был вопрос, не дает ли она показания в запуганном состоянии. Сеид сам сжался, когда услышал ее голос. - Господин Шефер, - сказал он родителю и отвел двумя пальцами родительские клочки, - на основании закона вы имеете право получить дочь свою Сусанну как похищенную. Дочка молча посмотрела на родителя. - Vater, - сказала она, - если вы возьмете меня, если вы осмелитесь на это, я этими руками задушу вас по дороге. Руки у нее были действительно сильные. - Но, - закончил Грибоедов, - сама похищенная должна признать своих родственников. Таков закон, - добавил он с удовольствием. Клочки трепетали, как бабочки, в родителевых руках. Родитель заморгал усиленно. Он моргал до тех пор, пока слезы не потекли у него из - --------------------------------------(1) Ваше превосходительство (нем.). (2) Папаша (нем.). (3) Черт побери (нем.). глаз. Он стоял, равнодушный, маленький, без всякого выражения на красном сморщенном личике, моргал, и из глаз падали у него чужие слезы. Потом он вынул обтрепанный бумажник, открыл грязными пальчиками отделение в нем и бережно засовал туда клочки. Выпрямился господин Шефер, заложил левую ручку за спину. Сделал он шаг к Грибоедову. Низко поклонился. - Excellenz, - сказал он важно и медленно, - честь имею откланяться. Эту женщину, - он ткнул пальчиком в немку, - вижу я, - он ткнул себя в грудь, - в первый раз. И он поднял палец строго. А потом согнулся и засеменил прочь, не оглядываясь, маленький седенький немец, в новой чистой рубашке, на которой не хватало пуговиц. Грибоедов сделал знак. Сеид и немка пошли прочь со двора. Немка шла медленно. Двое мальчиков цеплялись за ее широкие шальвары. Казаки смотрели ей вслед. Пойдет старенький немец на базар, купит овса для катера и будет торговаться, и по равнодушному лицу будут течь слезы, потом он вынет красный большой платок из кармана, высморкается, закурит аккуратно вонючую трубку и затрусит дни и ночи по дурным дорогам. И дома он сразу возьмет топорик наколоть дров, и будет их колоть каждый день, и за десять лет так ничего и не скажет об этой поездке своей рыхлой старухе. - Отца не признала, - сказал один казак и повел головой. - Богатая, - зевнул другой. - Обидно немцу, ей-богу, - сказал первый, - тратился, ездил, а она вот, во внимание не берет. - Давеча Серопка-купец тоже порожняком уехал. Закон. А разве баба посмотрит на закон?