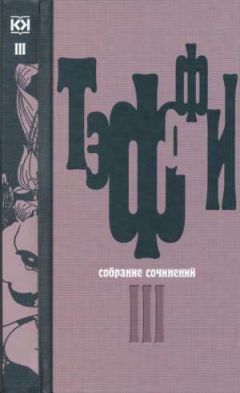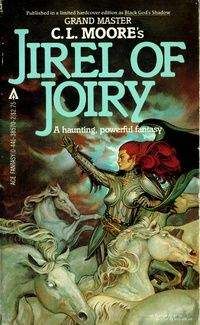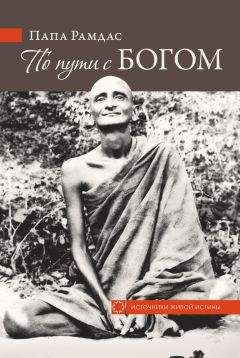Надежда Тэффи - Том 3. Все о любви. Городок. Рысь
Однако ничего. Дал себя разговорить, успокоить. Одолел военную науку и пошел воевать.
На побывку приехал домой очень довольный — опять «рот до ушей — хоть лягушке пришей».
— Слушайте! А ведь я-то, оказывается, храбрый! Ей-Богу, честное слово. Спросите у кого хотите. И пушки палят, и лошади скачут, а мне чего-то не страшно. Сам не понимаю — глупый я, что ли? Другие пугаются, а мне хоть бы что!
Приехал второй раз и объявил, что подал прошение — хочет в летчики.
— Раз я, оказывается, храбрый — так чего ж мне не идти в летчики? Храброму-то это даже интересно.
И пошел. Летал, наблюдал, бомбы бросал, два раза сам валился, второй раз — вместе с простреленным аппаратом, и так сильно контужен, что почти оглох. Отправили прямо в санаторию.
* * *В Москве, уже при большевиках, в хвосте на селедочные хвосты, кто-то окликнул меня. Узнала не сразу. Ну да мы тогда все друг друга не сразу узнавали.
— Гриша Петров?
Почернел как-то, и скулы торчат. Но это не главное. Главное — изменило его выражение глаз: какое-то виноватое и точно просящее, беспокойное.
— Как вы, — говорю, — загорели!
— Нет, я не загорел. Здесь другое. Я к вам приду и расскажу, а то со мной на улице говорить нельзя — очень уж кричать надо.
Вечером и пришел.
Рассказал, что в Москве проездом — завтра уезжает. Будет летать.
— Ведь вы же не можете — вы в отставке, вы инвалид.
— Большевики не верят. Буду летать. Ничего. Дело не в этом.
И узнала я, в чем дело.
— Отряд наш — шестнадцать офицеров. Сидели в глуши, думали — о нас и забыли. Лес у нас там, хорошо, грибы собирали. Вдруг приказ — немедленно одному явиться с аппаратом в Москву, пошлют его куда-то над Уфой летать. Мы бросили жребий. Вытащил товарищ и говорит: «Я повешусь, у меня мать в Уфе, я над Уфой летать не стану». Ну, я и вызвался заменить, думал, словчусь, полечу к чехословакам — я ведь, сами знаете, храбрый. Приезжаю сюда, а здесь говорят: не над Уфой летать, а над Казанью. А у меня в Казани старуха мать, и жена, и мальчишки мои — как же я стану в них бомбы бросать? Решил сказать начистоту. Заявил начальству, а оно — так любезно:
— Так, значит, в Казани ваша семья?
— В Казани, — говорю, — все.
— А как их адресочек?
Я и адрес сказал. Они записали.
— Ну-с, теперь, говорят, завтра же отправляйтесь на Казань. А в случае, если затеете перелететь к чехословакам или вообще недобросовестно отнесетесь к возложенному на вас поручению (это, то есть, бомбы бросать не буду), то семья ваша будет при взятии города расстреляна. Поняли?
Ну еще бы, как не понять!
Призадумался Гриша — черный такой стал, скуластый, и вдруг спросил:
— Как вы думаете — должен я сейчас застрелиться или посмотреть — может, как-нибудь… А? Что? Что?
Он очень плохо слышал.
* * *Несколько месяцев тому назад совершенно неожиданно встречаю в Болгарии старушку Петрову.
— Да, да, слава Богу, выбрались. Мы давно уже здесь. Маруся, Гришенькина жена, в школе устроилась учительницей. Мальчики здоровы, все хорошо. А сколько перестрадали! Как они на Казань-то шли! Есть было нечего, воды и той не было. Сами на Волгу с кувшинами бегали. Мальчики тоже чайники брали — пять верст почти. Бежим, бывало, а над нами аэроплан ихний гудит. Господи, думаю, хоть бы детей-то пощадили. Летчик свалился у нас за лесом, недалеко. Все бегали смотреть. Обгорел так, что лица не различить. А мне и не жалко. Собаке собачья смерть!
— А скажите, вы о Грише ничего не знаете?
— Нет, ничего. Так ничего и не знаем. С самого начала отрезаны были. Ну да ведь его большевики на службу призвать не могли, он, слава Богу, инвалид, контуженый, никуда не годный — где-нибудь отсиделся. Все ждали весточки. Обещали нам тут…
— Значит, ничего не знаете?
Она вдруг всполохнулась.
— А что? Может быть, вы что-нибудь?.. А? Может, слышали?
— Нет, нет… Я так… ничего не знаю.
Ностальгия
Пыль Москвы на ленте старой шляпы
Я как символ свято берегу…
Лоло.Вчера друг мой был какой-то тихий, все думал о чем-то, а потом усмехнулся и сказал:
— Боюсь, что к довершению всего у меня еще начнется ностальгия.
Я знаю, что значит, когда люди, смеясь, говорят о большом горе. Это значит, что они плачут.
Не надо бояться. То, чего вы боитесь, уже прошло.
Я видела признаки этой болезни и вижу их все чаще и чаще.
Приезжают наши беженцы, изможденные, почерневшие от голода и страха, объедаются, успокаиваются, осматриваются, как бы наладить новую жизнь и вдруг гаснут.
Тускнеют глаза, опускаются вялые руки и вянет душа, душа, обращенная на восток.
Ни во что не верим, ничего не ждем, ничего не хотим. Умерли. Боялись смерти большевистской и умерли — смертью здесь. Вот мы — смертию смерть поправшие!
Думаем только о том, что теперь там. Интересуемся только тем, что приходит оттуда. А ведь здесь столько дела. Спасаться нужно и спасать других. Но так мало осталось и воли и силы…
— Скажите, ведь леса-то все-таки остались? Ведь не могли же они леса вырубить: и некому и нечем.
Остались леса. И трава зеленая, зеленая русская.
Конечно, и здесь есть трава. И очень даже хорошая. Но ведь это ихняя «L'herbe»[45], а не наша травка-муравка.
И деревья у них может быть очень даже хороши, да чужие, по-русски не понимают.
У нас каждая баба знает, — если горе большое и надо попричитать — иди в лес, обними березыньку крепко двумя руками, грудью прижмись и качайся вместе с нею и голоси голосом, словами, слезами, изойди вся вместе с нею, с белою, с русскою березынькой.
А попробуйте здесь:
— Allons аu Bois de Boulogne embrasser le bouleau![46]
Переведите русскую душу на французский язык…
Что? Веселее стало?
Помню, в начале революции, когда стали приезжать наши эмигранты, один из будущих большевиков, давно не бывший в России, долго смотрел на маленькую пригородную реченку, как бежит она, перепрыгивая, с камушка на камушек, струйками играет простая, бедная и веселая. Смотрел он, и вдруг лицо у него стало глупое и счастливое:
— Наша речка русская!
Ффью! Вот тебе и третий интернационал!
Как тепло!
Ведь, пожалуй, скоро и там сирень зацветет…
* * *У знакомых старая нянька. Из Москвы вывезена.
Плавна, самая настоящая — толстая, сердитая, новых порядков не любит, старые блюдет, умеет ватрушку печь и весь дом в страхе держит.
Вечером, когда дети улягутся и уснут, идет нянька на кухню. Там французская кухарка готовит поздний французский обед.
— Asseyez-vous![47] — подставляет она табуретку.
Нянька не садится.
— Не к чему, ноги еще, слава Богу, держат.
Стоит у двери, смотрит строго.
— А вот, скажи ты мне, отчего у вас благовесту не слышно. Церкви есть, а благовесту не слышно. Небось, молчишь! Молчать всякий может. Молчать даже очень легко. А за свою веру, милая моя, каждый обязан вину нести и ответ держать. Вот что!
— Я в суп кладу селлери и зеленый горошек! — любезно отвечает кухарка.
— Вот то-то и оно… Как же ты к заутрени попадешь без благовесту? То-то я смотрю у вас и не ходят. Грех осуждать, а не осудить нельзя… А почему у вас собак нет? Эдакий город большой, а собак раз-два, да и обчелся. И то самые мореные, хвосты дрожат.
— Четыре франка кило, — возражает кухарка.
— Теперь, вон у вас землянику продают. Разве можно это в апреле месяце? У нас-то теперь благодать — клюкву бабы на базар вынесли, первую, подснежную. Ее и в чай хорошо. А ты что? Ты, пожалуй, и киселя-то никогда не пробовала!
— Le president de la republique?[48] — удивляется кухарка.
Нянька долго стоит у дверей у притолки. Долго рассказывает о лесах, полях, о монашенках, о соленых груздях, о черных тараканах, о крестном ходе с водосвятием, чтобы дождик был, зерно напоил.
Наговорится, напечалится, съежится, будто меньше станет и пойдет в детскую к ночным думкам, к старушьим снам — все о том же.
* * *Приехал с юга России аптекарь. Говорит, что ровно через два месяца большевизму конец.
Слушают аптекаря. И бледные обращенные на восток души чуть розовеют.
— Ну, конечно, через два месяца. Неужели же дольше? Ведь этого же не может быть!
Привыкла к «пределам» человеческая душа и верит, что у страдания есть предел.
Раненый умирал в страшных мучениях, все возраставших. И никогда не забуду, как повторял все одно и то же, словно изумляясь:
— Что же это? Ведь этого не может быть!
Может.
Вспоминаем
Горевали мы в Совдепии:
— Умер быт — плоть нашей жизни. Остался один хаос, и дух наш витает над бездною.
Как жить так — над бездною, — совершенно ведь невозможно.