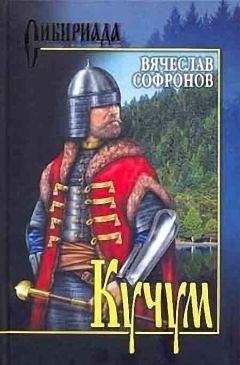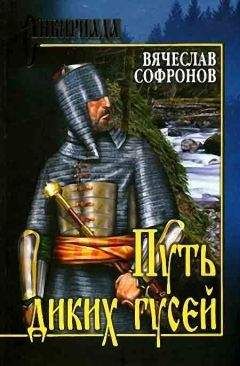Максим Горький - Том 17. Рассказы, очерки, воспоминания 1924-1936
Величественным жестом руки полицейский останавливает подвижной магазин брюк; собака устало садится на мокрый асфальт, но тотчас же встаёт и, оглянувшись назад, нюхает воздух. Что-то не понравилось ей, так же как и полицейскому. Он угрожающе поднял толстый белый палец, затем жестом полководца с дешёвой картины протянул руку в глубину тихой улицы, украшенной двумя рядами мокрых деревьев; на каждом из них — по десятку жёлтых листьев, они как будто сосчитаны и оставлены только для того, чтоб напомнить людям о возможности весны. Хозяин магазина брюк, сняв котелок, обнажив лысый череп, указывает полицейскому куда-то за его плечо, но полицейский неумолимо недвижим, и собака, зевнув, поворачивает тележку с брюками туда, куда повелевает власть.
— Всё, что может быть куплено, должно быть продано; так или не так?
Это говорит седой, курчавый, горбоносый человек, в зелёном переднике, протирая тряпкой стекло витрины, забрызганное грязью.
— Да. Но — скорей, скорей, — торопит его маленький, круглый приказчик, стоя у двери магазина.
Похоронная процессия тоже торопится. Чёрные люди в цилиндрах, ведя за собою тощих чёрных лошадей, шагают слишком быстро, они как будто смущены тем, что в таком великолепном городе, на такой богатой улице им пришлось провожать кого-то, кто не мог заработать себе на похороны более приличные. Чёрная колесница судорожно трясёт кистями и тихонько поскрипывает, внутри её стоит гроб, небольшой, рыжий, он похож на чемодан. За колесницей следует наёмный автомобиль, рядом с шофёром — человек без шляпы, длинноволосый, с растрёпанной седой бородкой, в очках. А сзади автомобиля сердито стучит грузовик, наполненный бочками, они распространяют запах солёной рыбы, на бочках, прикрыв плечи брезентом, сидит парень в шляпе из клеёнки; презрительно оттопырив губы, он наблюдает, как безуспешно шофёр грузовика пытается обогнать чёрный катафалк, и, сплёвывая на мостовую, покрикивает что-то шофёру.
— Снимите шляпу! Уважение к мёртвым, — строго внушает толстый большой человек прохожему, который обогнал его. Но тот, очевидно, не уважает ни мёртвых, ни живых; надвинув шляпу на лоб, наклонив голову, он стремительно несётся вперёд, расталкивая людей локтями рук, засунутых в карманы непромокаемого пальто. Он похож на сыщика из английского уголовного романа.
— Глупая голова, — бормочет толстяк, провожая его отталкивающим жестом, и, толкнув сразу двух дам, — не извиняется перед ними.
В залах выставки картин молодых художников бродят десятка два юношей и девиц, шагает, точно цапля, человек с большим животом на длинных ногах и длинным лицом; кости лица обтянуты багровой кожей, круглые глаза болезненно вытаращены, рот полуоткрыт, зубы у него зеленоватые и два — золотых. Он вызывает впечатление человека очень несчастного, возможно, что это — художественный критик. Беспощадно яркие картины кажутся недописанными, видимо, художники делали их крайне поспешно, нимало не заботясь об анатомической правильности линий человеческого тела и о законах перспективы. Вот — женщина, левая нога у неё вывихнута, впрочем, художник оправдал этот вывих тем, что надел на ноги женщины деревянные чулки и туфли с каблуками различной высоты: левый выше правого сантиметра на три.
На деревьях с листвою серого цвета стоит красный дом, сильно помятый ураганом, один его угол втиснут внутрь, колоды окон искривлены, из одного окна смотрит человек без ушей, с медным маятником часов вместо правой щеки. У подножья серых деревьев — ярко-зелёные пятна, издали они напоминают ежей, но, может быть, это просто трава, только не было времени написать её.
Сковородка с яичницей из двух несвежих яиц, шампиньоном и кусочком помидора, конечно — «натюр морт». Но девушка в клетчатом пальто, посмотрев на сковородку, говорит спутнику своему:
— Я её знаю, это — жена его брата. Очень похожа.
Человек с длинными ногами смотрит на картины очень пристально и долго, потом отходит к окну и механическим пером пишет в толстенькой книжке. Лицо его становится всё более несчастным и унылым, на этой выставке ярчайших красок он как будто окончательно убеждается в своей бездарности.
В залах, так же как на улице, сильный запах бензина и плесени. На десятках полотен вихри красок хотят вырваться из тусклой действительности, но, ещё более искажая её, преодолеть не могут. Картины убеждают, что искусство живописи, теряя волшебную способность украшать жизнь, подчиняется грубой силе текущего дня, но всё ещё немножко бунтует против его и, прикрываясь «наивностью», создает злые шаржи. Грустное и нелестное для художников впечатление вызывает этот бунт из-за угла.
Хотя глаза утомлены бессвязной пестротой красок, истеричными мазками кистей, но после этого испытания мокрые улицы каменного города кажутся ещё более мрачными, а весь город — декорацией трагедии, исполнители которой опаздывают начать игру. Группа рабочих, вырыв на площади длинную яму, хоронит в ней широкую трубу. Другая группа разбивает асфальт кирками, третья копается в глубокой канаве, удлиняя её. Работают молча, торопливо, с ожесточением, из-под шин авто на них брызгает жидкая грязь. Стоят два полицейских в плащах, оба точно склёпанные из железа. Они как бы олицетворяют несокрушимое равнодушие прохожих и проезжих обывателей города к людям, которые работают для их удобств.
Огромное, тяжёлое здание набито оружием, которым «защищал свою свободу» народ этой страны против народов других стран, которые «защищали свою свободу» от натиска народа этой страны. Здесь можно любоваться всеми формами орудий убийства от простой дубины, окованной железом, и от самострела до пулемёта и чудовищной, длинной пушки с оторванным концом хобота. Рыцарские доспехи и современные ружья, мечи, кинжалы и штыки, которыми можно колоть, рубить, пилить. Очень много вещей сделано художественно, а в общем — огромное количество испорченного металла. Пройдут года, разразится та, последняя война, которая уничтожит возможность массовых убийств, столь выгодных империалистам, на эту выставку придут дети, и очень трудно будет им поверить, что предки их, живя впроголодь, тратили неисчислимое количество средств и сил для того, чтоб истреблять друг друга.
Ресторан туго наполнен обедающими. Все они сидят на стульях замечательно крепко, плотно и кушают так, как будто завтра им уже не дадут есть. Дымно, и в сизом дыме плавают, точно угри в воде, слуги, разнося пищу по столам. Пианино, скрипка и саксофон пытаются заглушить лязг ножей, вилок, дребезг посуды, звон стаканов и ворчливые голоса. На саксофоне играет человек с голодным лицом и стеклянным глазом, мёртвый взгляд этого глаза неподвижно устремлён в широкую, голую спину женщины, — она чистит яблоко, срезая с него очень тонкий слой кожицы, чистит медленно. Наверное, она скушала бы яблоко вместе с кожей, если б на одном из её пальцев не сверкал крупный бриллиант. Женщины, у которых нет бриллиантов, показывают ноги.
Ресторан — скромный. Дамы раскрашены умеренно, мужчины в меру толсты. Все вместе они кажутся членами огромного семейства, которое выработало для каждой единицы и для всех обязательную манеру есть, пить, ковырять в зубах, улыбаться, одни и те же поклоны, жесты, междометия. Вполне допустимо думать, что каждый из них обязан круговой порукой употреблять определённое количество точно установленных слов, например — сто тринадцать. Человек, который употребляет сто тридцать три слова, — уже непонятен и считается «вольнодумцем».
Слуга нечаянно плеснул пивом из кружки на колено гостя, тот вскочил со стула и, яростно размахивая салфеткой пред лицом слуги, указывая всеми пятью пальцами на колено своё, закричал, как будто его облили серной кислотой или расплавленным свинцом. Десятки пар глаз смотрят на слугу уничтожающе, и все люди, ближайшие к месту драмы, прячут колени свои под столы. Один из них громко «констатирует факт»:
— Эти люди служат всё хуже.
— О, да, — соглашаются с ним.
Какое единодушие, какая солидарность чувств и мнении!
Если б ресторан загорелся, члены этой секты сытых, наверное, вышли бы из огня целы и невредимы. В случаях катастроф они тоже оставляют женщин позади себя, а если женщины мешают им спасать пиджаки, брюки и кожу, — мужья и любовники избивают женщин, как это бывало всегда и было ещё недавно в одном из «центров национальной культуры».
На улице стало светлее, чем днём, город богато засеян разноцветными огнями, дождь падает серебряной и золотой пылью, на крышах, на фасадах зданий сверкают огненные рекламы, витрины магазинов — точно жерла печей, где горят, плавятся и создаются вещи всех форм и цветов, всюду блестят круглые глаза автомобилей. Отражая эту безумнейшую игру земных огней, небо смущённо покраснело — в нём ни одной звезды. Совершенно ясно, что один из центров земной культуры богаче светом, чем эти старенькие, прокопчённые дымом, выпачканные облаками небеса с их созвездиями и Млечным Путём, более тусклым и бледным, чем рекламы кино.