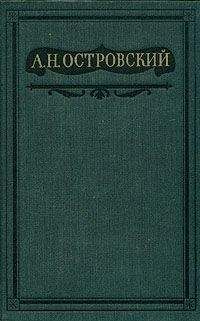Ал Малышкин - Люди из захолустья
За длинным столом, с ножками в виде косого креста, Соустин узнал паренька, однажды с таким упоением промчавшегося мимо него на тракторе. Он слышал, как сестра брезгливо называла его еще "собашником" - за тяготение к щенятам, которых Бутырин выкармливал и, говорят, вынашивал за пазухой. Бутырин озабоченно согнулся над листком, исписанным через копирку; один глаз его то и дело мучительно жмурился. Пареньку, очевидно, нелегко приходилось, он ничего не видел кругом и не слышал...
Однако, когда Соустин показал ему мандат на имя разъездного корреспондента "Производственной газеты", Н. Раздола,- мандат, в котором все учреждения приглашались содействовать Н. Раздолу в получении материалов для очерков о коллективизации,- пастушонок почтительно вскочил, сам принес ему из шкафа нужные дела и даже смахнул рукавом пыль с табуретки. Два парня, сидевшие за дальним столом, смотрели, приоткрыв рот... Из прихожей чаще начали заглядывать мужики, будто по делу, пили воду из кадушки, стоявшей у окна, остатки из кружки выплескивая на пол, а сами пытливым глазом косясь на приезжего.
После такого приема разговор о сестре вдруг показался Соустину совсем пустяковым делом. И нечего было его оттягивать, надо было начинать сейчас же... Но из прихожей словно ветром внесло Кузьму Федорыча.
Бутырин резко повернулся к нему: видимо, его ожидал.
- Ну как?
- В Заречной, Миколя, еще двоих сыскал, вот я какой! Значит, Малухина Ваську, Никанора-то рыжего зять, да Блинкова Алексея Егорыча...
Он запнулся, увидев против себя за столом того, кого не ждал видеть. И Соустину стало не по себе от этого желчного, обиженного взгляда. Кузьма Федорыч сделал, однако, вид, будто не знавал никогда никакого Соустина... Нагнулся к Бутырину:
- А зачем тут у нас, Миколя, чужие бревна?
Бутырин досадливо отмахнулся:
- Какие еще чужие бревна? Дальше говори.
Но Кузьма Федорыч молчал, держа нечто свое на уме.
Веки его были упрямо, враждебно опущены. Бутырину не терпелось:
- Ну?
- Ну... про Васяню я еще слыхал. Вечер с извозу приехал. Отдыхал, а теперь в лес собирается.
- Почему ты не зашел, не задержал?
- Задержи ступай! На вилы, что ль, напороться?- Кузьма Федорыч оживился:- Ты мне бумажку дай... с печатью. Уж с бумажкой я его задержу!
И Кузьма Федорыч даже ухмыльнулся. Видимо, на время забыл и про Соустина. В морщинах около рта обострилось горькое, жестокое.
- Задержу-у!
- Выдам наряд. Значит, шесть подвод есть.
Бутырин сам с собой разговаривал вслух:
- И еще надо сорок четыре. А где же взять? А? Значит, надо мне ехать в лес. Значит, я с Алексей Егорычем и поеду.
А Соустин перелистывал дела, будто читая... Вспомнилось злобное пророчество Васяни: "А меня беспременно на полустанок!" И эта горючая радость Кузьмы Федорыча. В зловещем омрачении представал полутемный Васянин двор. Но Кузьма Федорыч, очевидно, ни о чем таком не тревожился, он важничал, он был сейчас очень нужный человек. Начал даже выговаривать пареньку:
- Тоже вот... бегай, бегай для вас день-деньской, а ты мне избы хорошей и то не справишь. Мне в тепле-то как бы хорошо! Вот брошу вас всех, уеду к сыну, к председателю... и ничего ты со мной не сделаешь!
Бутырин дул на печать, посмеивался:
- Ты у нас ударник, актив... И никаких... ты не могёшь нас бросить.
- "Ударник, ударник",- притворно-сердито ворчал Кузьма Федорыч.
Получив бумажку, он упрятал ее в шапку, с оглядкой упрятал, словно нож. Взор его опять скользнул по Соустину - ревниво, неприязненно. Топтался около паренька.
- Слышишь-ка, Миколя... что я скажу-то...
Но Бутырин подталкивал его к прихожей:
- Валяй, отец, делай!
Кузьма Федорыч надел шапку. И вдруг, словно найдя себе утешение, лихо повеселел:
- Эх, и скислит сейчас Васяне!
Но Соустин, кажется, уже не слышал этого: так заинтересовало его одно заявление, попавшееся в делах... Писал его инженер Виктор Ивушкин, которого Соустин помнил гимназистом, просил восстановить в избирательных правах старуху-мать, ввиду полезной и преданной работы его, Ивушкина, для Советской власти.
И тут же в делах была приложена копия ответа сельсовета в город, на завод. Сельсовет запрашивал, почему на таком важном для строительства заводе, где работают тысячи пролетариата, держат на службе сына мшанского кулака, имевшего пять батраков, и почти что помещика в мелком масштабе. Сельсовет требовал дело немедленно расследовать и о решении уведомить бедноту Мшанского района, из которой Ивушкины порядочно попили крови в старое время...
Соустин замешкался несколько, однако поборол себя. Позвал Бутырина.
- Кстати, товарищ, у меня, кроме газетного дела, есть небольшое личное недоразумение, вернее - касающееся моей сестры.
Паренек слушал, наклонясь, локтем опершись на стол: что дальше.
- У моей сестры дом отнимают, якобы за невзнос налога моим братом Соустиным Петром, бывшим кустарем-торговцем...
- Это скрылся который? А ваше-то фамилие как будет?
- Моя - тоже Соустин, я - брат...
- А как же в бумаге-то сказано - Водопол, что ли?
- Раздол. Это мой псевдоним, я так в газете подписываюсь.
- Ага, темнишь там, стало быть!..
Бутырин отошел, что-то приказал помощникам-парням. Те вразвалку приблизились, без разговоров сгребли дела, лежавшие перед Соустиным, и отнесли их в шкаф. Соустин подождал еще минуты три: о нем словно забыли. Он встал, сам подошел к Бутырину.
- Так как же, мы с вами не договорили...
- У нас про это никаких разговоров не полагается, подай заявление.
Соустин торчал перед этим бывшим пастушонком унизительно, ненужно... На Соустине была модная мохнатая кепка, отличное пальто с каракулевым воротником. В Москве его любила изящная женщина... Пастушонок обернулся и вдруг спросил:
- А ты, гражданин, скажи нам адресок, где в Москве-то работаешь. Дай-ка мандат.
К Пензе товаро-пассажирский подкатил в сумерках. Когда Соустин протискивался к выходу, на темной площадке кто-то больно ударил его по уху. Он вырвался на перрон, вдогонку за человеком с бородой.
- Эй ты, сволочь... как ты смеешь!
- Словами не одолел, так он кулаком,- осуждающе крякнул кто-то из пассажиров.
Другой, повъедливее, голос сказал:
- Жалко, мало еще влепил!
Население вагона вываливало наружу, озлобелое, разодранное спорами. Соустин, горячась, тыкался по перрону, но обидчик пропал бесследно в сутолочном народе. Кипела злоба, ухо постыдно ныло... Правда, спустя несколько минут, за стаканом чая, Соустин успокоился, даже некое мстительное услаждение почувствовал... Дело началось в вагоне - опять спором о колхозах. Больше всех ярился один, с цыганской смоляной бородой, как оказалось бывший богатый шорник из мшанской округи. Шорник рвал у себя на груди рубаху, клял... Соустин не мог смолчать, душа его теперь особенно отвращалась от этих людей, потому что его самого насильственно, несправедливо как бы отнесли к их числу... Конечно, ему, столичному журналисту, было легко, под ядовитое одобрение слушателей, побить в споре перевертня-кулака, заставить его под конец замолчать, притулиться в темь. После, на площадке, шорник пакостно, исподтишка отомстил за все... Ну, да черт с ним!
А вечером Соустина уже баюкало в зеркальном уюте международного вагона. Земля предков отплывала назад. Опять сугробы, да опухшие от снега леса, да древние дочерна избенки, как в сказке, завалившиеся под овраг. Кое-где рассыплются за бугром не виданные еще среди этой убогости бирюзовые звездистые огоньки - стройка... И взметнется сердце, как если скажут: "А вот за этим бугром - война..." Впрочем, и в избенках никакой сказки не было: как убедился Соустин, рушили везде ее, сказку, древнюю, милую для барского сердца убогость, со скрежетом рушили, с моторным ревом, с бедой.
...В сумерках, после того как произошел у Соустина разговор в сельсовете, вскачь понеслись из леса пустые подводы. Ночью, нагруженные зерном, они двинулись по большаку. Но Васяни не отыскали. Не могли его разыскать и наутро - для Соустина, которому вдруг приспело ехать на полустанок. Ни Васяни, ни Клавы, ни лошади.
Зато возвращавшиеся на другой день возчики нашли в ометах Кузьму Федорыча. Он лежал ничком, как глубоко спящий; правую, откинутую руку его уже замело сугробом. Мохряная окровавленная шапчонка примерзла к голове. Как только разнесся слух о находке, к ометам хлынула задами вся Заовражная слобода.
Грозным напутствием проводил Соустина Мшанск... И это был уже не Мшанск: то, что деялось в нем, разрасталось по своему смыслу гораздо шире, разрасталось, расхлестывалось во всю неоглядную даль страны.
...Он прильнул к сумеречному окну. О Васяне почему-то донималм всякие мысли, навязчивые, как стук вагона, тошные. Где же он сейчас? Петлит в розвальнях где-нибудь по проселкам, с рухлядью, с Клавой, со смертью за плечами, направляясь к дальним станциям, к пустым землям, к компании, которую еще нужно собрать?.. Вон там, за промчавшимся переездом, в метелице заскакала и пропала чья-то лошаденка... Грязная изба-кочевье, Васянина песня, блудливые повадки Клавы сливались сейчас, издали, в один тоскливый вороний крик...